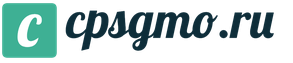Смерть а что дальше понятие бессмертие. Парадоксы жизни и смерти человека: смерть и бессмертие
Рождение и смерть - граничные рамки жизни каждого существа на планете. Это две сестры, дополняющие друг друга, две половинки целого, которые постоянно соприкасаются и взаимодействуют. Каждая является стартом чего-то нового, одновременно обе символизируют завершение ещё одного цикла бытия. И если с рождением у нас ассоциируются только приятные и радостные моменты, то конец жизни, приближающийся ежедневно, страшит и пугает неизвестностью. Что такое смерть человека? Что будет дальше? Давайте разбираться вместе.
Что такое смерть?
Мир устроен так, что все живущие в нём существа проходят через несколько этапов: рождение (появление, возникновение), рост и развитие, расцвет (зрелость), угасание (старение), гибель. Подобные циклы проходят даже представители неживой природы: звёзды и галактики, например, а также различные социальные объекты - организации и державы. Одним словом, ничто в физическом мире не может существовать вечно: всё имеет логическое начало и не менее уместный конец. Что уже говорить о живых тварях: насекомых, птицах, зверях и человеке. Они устроены так, что организм, поработав определённое количество времени, начинает изнашиваться, и прекращает свою жизнедеятельность.
Смерть - это завершающий этап жизни, который становится последствием глубокого, сильного, необратимого нарушения функций жизненно важных органов. Если она наступает из-за естественного изнашивания тканей, старения клеток, то называется физиологической, или естественной. Человек, прожив долгую и счастливую жизнь, однажды засыпает, и больше не открывает глаза. Такая смерть считается даже желанной, она не приносит умирающему ни боли, ни страдания. Когда же конец жизни стал результатом неблагоприятных обстоятельств и факторов, то можно говорить о патологической смерти. Она наступает из-за травмы, асфиксии или кровопотери, к ней приводят инфекции и болезни. Иногда смерть имеет массовый характер. Например, в XIV веке всю Европу и Азию накрыла пандемия Что такое чёрная смерть? Это именно тот страшный мор, пандемия, которая за два десятилетия забрала жизни 60 миллионов людей.
Разные точки зрения
Атеисты полагают, что окончание существования человека, его переход в полное небытие - именно так можно характеризовать смерть. Это, по их мнению, гибель не только физического тела, но и сознания индивида. В душу они не верят, считая её своеобразной формой деятельности мозга. После серое вещество больше не подпитывается кислородом, поэтому погибает вместе с другими органами. Соответственно, атеисты полностью исключают вечную жизнь и
Что касается науки, то с её точки зрения смерть является тем природным механизмом, который защищает планету от перенаселения. А также обеспечивает смену поколений, каждое последующее из них достигает большего развития, чем предыдущее, что становится отправной точкой внедрения инноваций и прогрессивных технологий в разные сферы жизни.

Вместо этого религия по-своему объясняет, что такое смерть человека. Все известные мировые вероисповедания делают акцент на том, что гибель физического тела не является концом. Ведь оно - всего лишь оболочка для вечного - внутреннего мира, души. Каждый приходит в этот мир, чтоб выполнить своё предназначение, после чего возвращается к Создателю на небеса. Смерть - это только разрушение телесной оболочки, после чего душа не прекращает существование, а продолжает его уже вне тела. В каждой религии представления о загробной жизни свои, причём все они существенно отличаются друг от друга.
Смерть в христианстве
Начнём именно с этой религии, так как она более близка и знакома славянскому народу. Ещё в далёкие времена, узнав, что такое чёрная смерть, испугавшись её непреодолимой силы, люди заговорили о перерождении души. Скорее, из-за страха перед гибелью, пытаясь подарить себе самому надежду, некоторые христиане допускали, что человеку предписана не одна, а несколько жизней. Если он совершал серьёзные ошибки, грешил, но успел покаяться, то Господь обязательно даёт ему шанс исправить содеянное - дарит ещё одно возрождение, но уже в другом теле. На самом деле истинное христианство отрицает мифическую доктрину о предсуществовании души. Ещё второй Константинопольский собор, зарегистрированный в VI веке, грозил анафемой тому, кто будет распространять подобные нелепые и абсурдные суждения.
По мнению христианства, смерти как таковой нет. Наше существование на земле - всего лишь подготовка, репетиция перед жизнью вечной рядом с Господом. После непосредственной гибели телесной оболочки душа несколько дней пребывает рядом с ней. После чего на третьи сутки, обычно после погребения, улетает на небеса или же отправляется в логово чертей и бесов.
Что такое смерть человека и что дальше его ожидает? Христианство утверждает, что это всего лишь завершение незначительного этапа существования души, после которого она продолжает развиваться в раю. Но прежде чем туда попасть, она обязана пройти Страшный суд: нераскаявшиеся грешники отправляются в чистилище. Срок пребывания в нём зависит от того, каковы были злодеяния умершего, насколько яростно за него молятся родственники на земле.
Мнение других религий
Они по-своему трактуют понятие смерти. Для начала давайте выясним, что такое смерть с точки зрения философии мусульман. Во-первых, между исламом и христианством очень много общего. В религии азиатских стран земная жизнь также считается переходным этапом. После её окончания душа попадает на суд, который возглавляют Накир и Мункар. Именно они расскажут, куда вам направляться: в рай или ад. Затем грядёт высший и справедливый суд самого Аллаха. Вот только настанет он после того как Вселенная разрушится и полностью исчезнет. Во-вторых, сама смерть, ощущения во время неё, сильно зависят от наличия грехов и веры. Она будет незаметной и безболезненной для истинных мусульман, продолжительной и мучительной для атеистов и неверных.

Что касается буддизма, то для представителей этого вероисповедания вопросы смерти и жизни являются второстепенными. В религии даже нет понятия души как таковой, существуют только её основные функции: познание, желание, ощущение и представление. Такими же аспектами характеризуется и тело плюс телесные потребности. Правда, буддисты верят в реинкарнацию и считают, что всегда перерождается - в человека или другое живое существо.
А вот иудаизм совсем не уделяет внимание объяснению того, что представляет собой смерть. Это, по мнению его приверженцев, не такой уж и важный вопрос. Позаимствовав у других религий различные понятия, иудаизм впитал в себя целый калейдоскоп смешанных и адаптированных убеждений. Поэтому в нём предусматривается реинкарнация, а также наличие рая, ада и чистилища.
Рассуждения философов
Кроме представителей религиозных конфессий вопрос окончания земной жизни любили поднимать и мыслители. Что такое смерть с точки зрения философии? Например, представитель Античности Платон считал, что она является результатом отделения души от бренной физической оболочки. Мыслитель полагал, что тело - тюрьма для духа. В ней он забывает о своём духовном происхождении и стремится к удовлетворению низменных инстинктов.
Римлянин Сенека уверял, что не боится смерти. По его мнению, она - либо конец, когда тебе уже всё равно, либо переселение, а значит, продолжение. Сенека был уверен, что нигде не будет так тесно человеку, как на земле. Эпикур тем временем считал, что всё дурное мы получаем от наших ощущений. Смерть - конец чувств и эмоций. Поэтому бояться её нечего.

Что такое смерть с точки зрения философии Средневековья? Ранние теологи - Богоносец, Игнатий и Татиан - противопоставляли её жизни, причём не в пользу последней. Культом снова становится стремление умереть за веру и Господа. В XIX веке отношение к гибели тела изменилось: одни старались не думать о ней, другие, наоборот, проповедовали о кончине, возводя её на алтарь. Шопенгауэр писал: только животное полноценно наслаждается жизнью и её благами, потому что не мыслит о смерти. По его мнению, только разум виноват в том, что конец земной жизни нам кажется таким ужасающим. «Величайший страх - боязнь смерти», - утверждал мыслитель.
Основные этапы
Духовная составляющая гибели человека ясна. Теперь попробуем выяснить, что такое Медики выделяют несколько стадий процесса умирания:
- Предагональное состояние. Длится от десятка минут до нескольких часов. Человек заторможенный, сознание неясное. Может отсутствовать пульс на периферических артериях, при этом прощупывается только на бедренной и сонной. Наблюдается бледность кожных покровов, присутствует одышка. Предагональное состояние заканчивается терминальной паузой.
- Агональный этап. Дыхание может прекращаться (от 30 секунд до полутора минут), артериальное давление падает до нуля, угасают рефлексы, в том числе и глазные. В коре головного мозга происходит торможение, функции серого вещества постепенно отключаются. Жизнедеятельность становится хаотичной, организм перестаёт существовать как единое целое.
- Агония. Длится всего несколько минут. Предшествует клинической смерти. Это последний этап борьбы человека за жизнь. Все функции организма при этом нарушены, отделы центральной нервной системы, расположенные выше ствола мозга, начинают тормозить. Иногда появляется глубокое, но редкое дыхание, происходит отчётливое, но кратковременное повышение давления. Сознание и рефлексы отсутствуют, хотя могут ненадолго возобновиться. Со стороны кажется, что человеку становится лучше, но подобное состояние обманчивое - это последняя вспышка жизни.
Затем следует клиническая смерть. Хотя это и последний этап умирания, он обратимый. Человека могут вывести из указанного состояния или же он самостоятельно возвращается к жизни. Что такое клиническая смерть? Детальное описание процесса изложено ниже.
Клиническая смерть и её признаки
Этот период достаточно короткий. Что такое клиническая смерть? И её признаки каковы? Медики дают чёткое определение: это этап, который наступает сразу после прекращения дыхания и активного кровообращения. В ЦНС и других органах наблюдаются изменения в клетках. Если врачи грамотно будут поддерживать с помощью аппаратов работу сердца и лёгких, то восстановление жизнедеятельности организма вполне возможно.
Основные признаки клинической смерти:
- Рефлексы и сознание отсутствуют.
- Наблюдается цианоз эпидермиса, при геморрагическом шоке и большой кровопотере - резкая бледность.
- Зрачки сильно расширены.
- Сердечные сокращения прекращаются, человек не дышит.
Остановка работы сердца диагностируется, когда на протяжении 5 секунд отсутствует пульсация на сонных артериях и сокращение органа не прослушивается. Если больному сделать электрокардиограмму, то можно увидеть фибрилляцию желудочков, то есть будут выражены сокращения отдельных пучков миокарда, брадиаритмия либо же регистрируется прямая линия, что указывает на полное прекращение работы мышцы.
Отсутствие дыхания также определяется довольно просто. Оно диагностируется, если за 15 секунд наблюдения врачи не могут распознать явных движений грудной клетки, не слышат шума выдыхаемого воздуха. При этом нерегулярные судорожные вдохи не могут обеспечить вентиляцию лёгких, поэтому полноценным дыханием их назвать сложно. Хотя врачи, зная, что такое пытаются на этом этапе спасти пациента. Так как данное состояние - ещё не гарантия того, что человек обязательно умрёт.
Что делать?
Мы выяснили, что клиническая смерть - это самая последняя стадия перед окончательной гибелью физического тела. Её длительность напрямую зависит от характера болезни или травмы, которые привели к такому состоянию, а также от течения и сложности этапов, что ей предшествуют. Так, если предагональный и агональный периоды сопровождались осложнениями, например, сильным нарушением кровообращения, то длительность клинической смерти не превышает 2 минут.

Не всегда удаётся зафиксировать и точный момент её наступления. Только в 15% случаев опытные врачи знают, когда она началась, и могут назвать время перехода клинической смерти в биологическую. Поэтому если у пациента отсутствуют признаки последней, например, трупные пятна, то можно говорить об отсутствии фактической гибели физического тела. В этом случае нужно без промедления приступать к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца. Медики говорят, если вы обнаружили человека, у которого отсутствуют признаки жизни, то последовательность ваших действий должна быть следующей:
- Констатируйте отсутствие реакций на раздражители.
- Вызовите скорую помощь.
- Уложите человека на ровную твёрдую поверхность и проверьте проходимость дыхательных путей.
- Если больной самостоятельно не дышит, сделайте искусственное дыхание рот в рот: по два медленных полных вдоха.
- Проверьте наличие пульса.
- Если пульса нет, делайте массаж сердца, чередуя его с вентиляцией лёгких.
Продолжайте в таком духе, пока на вызов не приедет реанимационная бригада. Квалифицированные врачи проведут все необходимые мероприятия по спасению. Зная на практике, что такое смерть человека, они диагностируют её только тогда, когда все способы окажутся бессильными, и пациент не будет дышать определённое количество минут. После их истечения считается, что клетки мозга начали умирать. А так как этот орган - фактически единственный незаменимый в организме, медики фиксируют время смерти.
Смерть в глазах ребёнка
Тема смерти всегда была интересна детям. Малыши начинают бояться этого явления в 4-5 лет, когда уже потихоньку осознают, что это такое. Кроха переживает, чтобы не умерли его родители и другие близкие люди. Если же трагедия произошла, то как объяснить ребёнку, что такое смерть? Во-первых, ни в коем случае не утаивайте этот факт. Не нужно врать, что человек уехал в длительную командировку или лёг в больницу на лечение. Малыш чувствует, что ответы неправдивы, и чувство страха у него ещё больше усиливается. В будущем, когда ложь выплывет, кроха может сильно обидеться, возненавидеть вас, получить серьёзную психологическую травму.

Во-вторых, можете взять малыша в церковь на отпевание. А вот на самих похоронах ему пока что лучше не присутствовать. Психологи утверждают, что процедура будет тяжело восприниматься неокрепшей детской психикой и приведёт к стрессу. Если умер кто-то из очень близких для малыша родственников, он должен что-то сделать для усопшего: поставить свечу, написать прощальную записку.
Как объяснить ребёнку, что такое смерть близкого человека? Скажите, что теперь он отправился к Богу на небеса, где превратился в ангела, и отныне будет охранять малыша. Как вариант, возможен рассказ о трансформации души усопшего в бабочку, собачку или новорождённого младенца. Брать ли кроху на кладбище после похорон? Какое-то время оградите его от таких посещений: это место очень мрачное, и его посещение негативно отразится на психике ребёнка. Если же он пожелает «поговорить» с покойником, отведите его в церковь. Скажите, что это именно то место, где можно мысленно или вслух пообщаться с тем, кого уже с нами нет.
Как перестать бояться смерти?
Не только дети, но и взрослые часто интересуются, что такое смерть и как её не бояться. Психологи дают множество полезных рекомендаций, которые помогут уменьшить ненужные страхи и сделают вас более смелыми перед неизбежностью:
- Занимайтесь любимым делом. У вас просто не будет времени для плохих мыслей. Доказано, что тот, кто имеет приносящее удовольствие занятие, намного счастливее. Ведь 99% болезней вызывают именно стрессовые ситуации, неврозы и негативные мысли.
- Помните: никто не смерть. Откуда тогда мысли, что она страшна? Возможно, всё происходит безболезненно: организм, скорее всего, пребывает в состоянии шока, поэтому автоматически лишает себя чувствительности.
- Обратите внимание на сон. Ведь его называют маленькой смертью. Человек находится в бессознательном состоянии, у него ничего не болит. Когда вы умрёте, вы так же безмятежно и сладко заснёте. Значит, бояться не стоит.

А ещё просто живите и наслаждайтесь этим прекрасным ощущением. Вас по-прежнему волнует, что такое смерть и как к ней относиться? По-философски. Она неизбежна, но зацикливаться на мыслях о ней не стоит. Нужно ценить каждое мгновение, отпущенное нам судьбой, уметь видеть счастье и радость даже в самых негативных моментах жизни. Думайте о том, как хорошо, что настало утро нового дня: делайте так, чтобы даже тени горести в нём не было. Помните: мы рождены, чтобы жить, а не умирать.
Жизнь на грани смерти, утрата и поиск смысла жизни – ситуации, которые в философии и литературе исследовались глубже и тщательнее, чем какие-либо другие. Всякий человек обязательно задумывается о смерти. Жизнь индивида может быть наполнена смыслом, но может вдруг утратить для него этот смысл. Достойно умереть, когда приходит смерть, бороться с нею, когда есть шанс жить, помогать другим людям в их именно смертной борьбе – это великое и нужное любому человеку умение. Ему учит сама жизнь. Жизнь и смерть человека, смысл жизни – это вечные темы искусства философии.
Человечество выработало множество культурных традиций, которые помогают ему преодолеть страх смерти и обрести символическое бессмертие. Оно обеспечивается разными способами. Прежде всего, этобиологическое бессмертие, которое человек обретает в потомстве. Человек знает, что он смертен, но уверен в продолжении своего рода. Такая форма психологического выживания через надежду на неугасание определенных генетических и иных свойств особенно отчетливо прослеживается в патриархальных и восточных культурах.
Рядовой представитель любой из этих культур стремится утвердить себя в образе рода или племени. Он как бы растворяется в другом через кровные узы. Человек отождествляет себя не столько с самим собой, сколько с кланом, племенем, родом. Он чувствует себя частицей общности и уверен, что данная общность не исчезнет.
Чрезвычайно широкое распространение во многих культурах получила натуралистическая версия бессмертия . Она исходит из возвеличивания природы, ее вечной силы и желания сохранить ее.
Иным способом символического увековечивания жизни можно назвать творческое бессмертие . Создание произведений искусства, литературы, полезных предметов и дел для других людей - во всем этом выражается идея продолжения жизни. Посвятить жизнь реализации общей цели, обрести себя в коллективном сознании или в индивидуальном творчестве - вот сущность психологического состояния при попытке утвердить себя через собственные деяния.
Разрушение может также стать способом достижения символического бессмертия. Широко известен в истории Герострат, который сжег в древности храм с богатейшей библиотекой. Поступок Герострата был продиктован жаждой славы и желанием остаться в памяти потомков.
Теологическое (религиозное) бессмертие является наиболее значительным способом достижения символического бессмертия. Свою энергию жизни, волю к сохранению собственной уникальности человек издавна стремился выразить с помощью религиозной символики (создание икон, храмов, обрядов и т.п.) и утверждением идей о бессмертии души. В религиозных представлениях жизнь предстоит лишь как роковая пауза на вечном пути к небесному инобытию.
Эту точку зрения резко критиковал В. Розанов. Он отказывается интерпретировать идею бессмертия (посмертного воскресения) человека в смысле превосходства абсолютного над земным. Он считал, что превосходство посмертного в христианстве радикально искажает наше отношение к жизни. Оно заставляет думать только о посмертном будущем, умаляя значение творческих усилий человека в каждый момент его земной жизни. Розанов же считает самым главным именно последнее. «Мне кажется, – пишет он, – наше дело на земле просто: делай хорошо свое дело. И больше чего! Никаких страхов, опасения «за будущее»... Соответственно и воскресение – это не то, что будет когда-то в будущем, а то, что творится сейчас, в каждое мгновение: «Воскреснуть – это как бы в секунде бытия хлебнуть столько жизни, почерпнуть такую глубь бытия, засверкать таким сверканием душевности, оживления, напряжения всех его способностей, что годы и века тягучей жизни «так себе» не могут пойти с этим в сравнение». 51 В контексте таких представлений бессмертие человека заключается в его неразрывной связи со всем бытием.
Жизнь и смерть в узком смысле можно рассматривать как обозначение биологических процессов рождения и умирания. Западная философия XVIII−XIX вв., например, трактует жизнь как механическое движение. Соответственно смерть противопоставляется жизни как ее прекращение. Однако такое упрощенное понятие жизни и смерти не приближает нас к разгадке самых важных для человека форм бытия или небытия. Эту сторону механистической трактовки жизни очень верно подметил Лев Толстой. Исследуя данный вопрос, он отмечал: «Понятие жизни представляется сначала человеку самым простым и ясным. Прежде всего человеку кажется, что жизнь в нем, в его теле. Я живу в теле, стало быть жизнь в моем теле. Но как только человек начнет искать эту жизнь в известном теле, так сейчас и являются затруднения. Ее нет в ногтях и волосах, но и нет в ноге, в руке… нет и в крови, нет и в сердце, нет и в мозгу. А есть везде и нигде нет. И оказывается, что по месту жительства найти ее нельзя. Тогда человек ищет ее во времени, и тоже сначала кажется очень просто… Но опять, как станешь искать ее во времени, так сейчас видишь, что и тут дело не просто. … Искать, оказывается, если уже искать ее, то не в пространстве, не во времени, не как следствие и причину, а как что-то такое, что я в себе знаю совсем независимо от пространства, времени и причины». 52
В широком смысле рассмотрение категорий жизни и смерти вызывает множество вопросов.
Во-первых, исчерпывается ли содержание жизни только биологическим содержанием? Очевидно, что нет. Сущность жизни заключена в ином. Она знаменует собою более высокую ступень эволюции. Кроме того, только живая материя способна воспроизводить саму себя. И наконец, жизнь дает предпосылку для появления мыслящей, одухотворенной материи.
Во-вторых, является ли жизнь уникальным явлением в Космосе, или она имеет аналогии? Ответ на данный вопрос подводит к постановке другого вопроса – ценности жизни и возможности бессмертия . Истолкование жизни и бессмертия как ценностей в философском смысле кажется бесспорным. Ведь если нет земного существования, то остальные ценности утрачивают свою непреложность. Человечество не сможет продлить свое собственное бытие, если оно перестанет воспринимать жизнь как высшую ценность.
Размышления по поводу проблемы смерти и бессмертия человека станут ключевым моментом в мировоззрения большинства оригинальных мыслителей России. Впервые к философскому доказательству бессмертия человека в обратился русский мыслитель XVIII в. А.Н. Радищев. Он использует два аргумента. В противоположность идеям механистического просветительства, он доказывает, что смерть не может рассматриваться как полное уничтожение тела, как переход тела от бытия к небытию. Ведь здесь происходит только перераспределение тех телесных элементов, из которых составилось тело в период его рождения и роста. Но тогда и душа, тесно связанная с телом и зависящая от него, в акте смерти испытывает не переход от бытия к небытию, а только некоторое изменение.
Второе доказательство основывается на наличии вмире непрерывной иерархии степеней совершенства, в которой человекзанимает высшее место (по крайней мере, в сравнении со всеми природными сущностями). Это высшее место обусловлено тем, что человек обладает мыслительной способностью; отсюда и следует, что сама мыслительная способность, как знак высшего совершенства, не может быть смертной, не может исчезнуть.
Установив бессмертие души, Радищев задается еще одним вопросом: каково будет бытие души после смерти тела – более совершенным, чем в земной жизни, или менее совершенным? Ответ на него почти очевиден в свете рассуждений Радищева о человеке как существе природного мира, самой целью сотворения которого было достижение наибольшей доступной для природы степени совершенства: «...цель его на земле есть совершенствование, та же пребудет целию и по смерти; а из того следует, как средство совершенствования его было его организацией, то должно заключать, что он иметь будет другую, совершеннейшую и усовершенствованному его состоянию соразмерную». 53 Радищев в этом контексте оказывается родоначальником и предтечей всех последующих подходов к проблеме бессмертия. Его идея о соотносительности жизни и смерти и убеждение в немыслимости смерти как абсолютного уничтожения, перехода к абсолютному небытию найдут развитие у А.С. Пушкина и П.Г. Чаадаева.
Петр Чаадаев радикально переосмыслил суть отношений между жизнью и смертью. И в обыденных представлениях людей, и в традиционном христианском мировоззрении смерть выступает как абсолютное отрицание жизни. Она «несовместима» с возможностью продолжения жизни в прежней форме; если за смертью и следует жизнь, то это – жизнь, понимаемая в ином смысле, чем наше земное, несовершенное существование. Этим обусловливается ужас смерти и чувство абсолютной ее «инородности», невозможность понять и принять ее, основываясь на том, что доступно нам в нашей жизни. В противоположность этому, Чаадаев понимает смерть не как абсолютную, а как относительную противоположность жизни. Это означает, что ее можно понять только через саму жизнь, и, наоборот, жизнь можно понять, только учитывая тот факт, что ей противостоит смерть. Приход смерти вовсе не предполагает абсолютного отрицания жизни. Будучи взаимосвязаны через свою относительную противоположность, жизнь и смерть могут сменять друг друга, обуславливая свою взаимную смысловую определенность.
Эта важнейшая идея делает традиционное христианское понимание бессмертия внутренне противоречивым. Бессмертие, реализованное в полном смысле, стало бы одновременно «безжизненным». Жизнь не может быть бессмертной, нет жизни вне смерти, а есть постоянная смена жизни и смерти, эта смена и задает бытие человека. Именно в таком смысле необходимо понимать ключевой тезис Чаадаева о том, что христианское бессмертие – это жизнь без смерти, а вовсе не жизнь после смерти. Здесь «жизнь без смерти» вовсе не означает, что возможно состояние мира, в котором смерти вообще нет в бытии. «Жизнь без смерти» – это постоянное продолжениеземной жизни, в которой она приобрела подобающее ей значение как подчиненный и вторичный элемент самой земной жизни. Указанная поправка к традиционному христианскому учению о бессмертии выражает самую сокровенную суть мироощущения, характерного для русской культуры. Русские философы после Чаадаева постоянно возвращались к этой теме, придавая ей совершенно различные оттенки и формы – от сложной метафизической конструкции всеединства Вл. Соловьева до несколько прямолинейной идеи устранения смерти и «воскрешения отцов» (концепция Н.Федорова) и идеи стирания границ между актами рождения и смерти В.Розанова. Последний считал, что утверждение абсолютности, т.е. бессмертности человеческой личности вступает в прямое противоречие с фактом конечности человека, ограниченности его бытия рождением. Таким образом, рождение и смерть выступают у Розанова не столько границей человеческого бытия, сколько связью человеческой личности с бесконечным бытием и бесконечностью жизнью.
В русской философии вопросы преодоления смерти часто приобретают практический характер. Так, в философии Н.В. Федорова цель человечества сводится к одной единственной идее – идее общего дела воскрешения и бессмертного существования всех людей на земле.
Отвергая традиционное понимание воскресения как сверхъестественного акта», осуществляемого Богом «в конце времен» и связанного с уничтожением всего несовершенного земного бытия, он полагает, что идея воскресения является реальным заданием для человечества, взятого в его настоящем земном виде. Возможность выполнения этого задания доказана явлением на земле Христа как Бога и человека одновременно. «Показывая, что Христос был не только Бог, но действительный человек, тем самым доказывалась и необходимость деятельности самого человека в деле воскресения, и не только нравственной, но и умственной, и физической, материальной». 54 Федоров останавливается на этом общем тезисе; конкретизируя его утверждает, что человеческое задание преодоления смерти и воскресения ушедших поколений должно быть реализовано с помощью развития науки, за счет раскрепощения ее всемогущества по отношению к природе и ее законам.
Но, пожалуй, наиболее остро ощущение жизни и смерти как мучительных экзистенциальных проблем человечества выражено в философии Ф.М. Достоевского. Как и Чаадаев, он убежден, что смерть абсолютно вторична по отношению к жизни, и «разрыв», вносимый смертью, является чисто относительным, «несущественным» для жизни. Факт воскресения Христа является тому абсолютным доказательством. Человек может и должен быть «скомпенсирован» возвращением к такой же жизни в том же теле (хотя законы этой возрожденной жизни могут быть иными). С еще большей прямотой совершенно неортодоксальный смысл идеи посмертного существования человека выявляется в рассуждениях одного из самых неоднозначных героев Достоевского – Свидригайлова из романа «Преступление и наказание». Свидригайлов, безусловно, верит в бессмертие, однако это бессмертие уже ничего общего не имеет с христианством и скорее напоминает восточную концепцию переселения душ. Свидригайлов полагает, что человек продолжает телесно существовать после смерти в другом мире, «соседнем» с нашим, законы существования которого являются абсолютно непонятными и загадочными для нас. Все «соседствующие» (в каком-то сверхэмпирическом «пространстве») миры связаны друг с другом, и их обитатели могут стать видимыми в нашем мире. Об этом свидетельствуют привидения, которые являются Свидригайлову. В результате он приходит к выводу, что смерть – это толькопереход от одной сферы бытия к другой, и этот переход начинает осуществляться и становится зримым в любой серьезной болезни, охватывающей человека, и только «количественно» отличается от болезни, завершая указанный переход. Не случайно свое предстоящее самоубийство Свидригайлов постоянно называет вояжем, поездкой «в Америку».
Исследуя феномен самоубийства, Кириллов (роман «Бесы») приходит к выводу, что основная причина, по которой люди не решаются покончить с собой, − это мысль о «том свете». Собеседник Кириллова в разговоре о феноменах самоубийства понимает это в христианском смысле – как страх посмертного исчезновения. Однако Кириллов имеет в виду совсем другое – страх того, что существование после смерти будет еще более абсурдным, чем в земном мире. Именно этот страх люди называют «страхом смерти» (ведь, кроме этого, в смерти бояться нечего, вера в какое-то бессмертие является безусловной), и именно он заставляет людей держаться за несовершенную земную жизнь и не допускать мысли о самоубийстве. Вера, которую пытается обосновать своей жизнью и своей смертью Кириллов, должна уничтожить этот страх, если люди обретут эту веру, они перестанут бояться смерти − это и будет «новый человек», которому «будет все равно, жить или не жить». В этих словах нужно видеть не отрицание жизни и ее ценности, а, наоборот, признание за жизнью абсолютной ценности, по отношению к которой смерть теряет свое прежнее значение.
Очевидно, что ресурсы человеческого стремления преодолеть смерть и продлить жизнь многообразны. Но означает ли это, что проблема исчерпана? Достаточно ли выбрать себе символический способ психологической защиты от страха смерти, чтобы жизнь стала полноценной? Очевидно, что нет. Осознание конечности своего бытия рано или поздно приходит к каждому человеку. И встает вопрос: имеет ли смысл наше существование и наша деятельность, если они могут оборваться?

Севиндж Мамед Сулейман
“ ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ, БЕССМЕРТИЕ...”
Введение. ……………………………………………………………….……….3
Человек в поисках смысла. Смысл жизни. ………………………….………...6
О долголетии человеческой жизни. ………………………………….……….9
Проблема смерти. Смысл смерти. …………………………………………….11
Смертная душа. …………………………………………………………………28
Бессмертие личности. …………………………………………………………..29
Заключение. ……………………………………………………………….……..32
Список литературы. …………………………………………………………...33
Введение
Издревле человек ставил перед собой вопрос, в чем сущность человеческого бытия. Многие философы и мыслители пытались ответить, для чего живет человек, для чего пришел он в этот мир, почему он умирает и что происходит с ним после смерти.
Жизнь и смерть - вечные темы духовной культуры человечества во всех ее подразделениях. О них размышляли пророки и основоположники религий, философы и моралисты, деятели искусства и литературы, педагоги и медики. Вряд ли найдется взрослый человек, который рано или поздно не задумался бы о смысле своего существования, предстоящей смерти и достижении бессмертия. Эти мысли приходят в голову детям и совсем юным людям, о чем говорят стихи и проза, драмы и трагедии, письма и дневники. Только раннее детство или старческий маразм избавляют человека от необходимости решения этих проблем.
По сути дела, речь идет о триаде : жизнь - смерть - бессмертие, поскольку все духовные системы человечества исходили из идеи противоречивого единства этих феноменов. Наибольшее внимание здесь уделялось смерти и обретению бессмертия в жизни иной, а сама человеческая жизнь трактовалась как миг, отпущенный человеку для того, чтобы он мог достойно подготовиться к смерти и бессмертию.
За небольшими исключениями у всех времен и народов высказывались о жизни достаточно негативно. Жизнь - страдание (Будда, Шопенгауэр и др.); жизнь - сон (Платон, Паскаль); жизнь - бездна зла (Древний Египет); " Жизнь - борьба и странствие по чужбине" (Марк Аврелий); "Жизнь - это повесть глупца, рассказанная идиотом, полна шума и ярости, но лишенная смысла" (Шекспир); "Вся человеческая жизнь глубоко погружена в неправду" (Ницше) и т. п.
Об этом же говорят пословицы и поговорки разных народов типа "Жизнь - копейка". Ортега-и-Гассет определил человека не как тело и не как дух, а как специфически человеческую драму. Действительно, в этом смысле жизнь каждого человека драматична и трагична: как бы удачно не складывалась жизнь, как бы она не была длительна - конец ее неизбежен. Греческий мудрец Эпикур сказал так: "Приучай себя к мысли, что смерть не имеет к нам никакого отношения. Когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем".
Смерть и потенциальное бессмертие - самая сильная приманка для философского ума, ибо все наши жизненные дела должны, так или иначе, соизмеряться с вечным. Человек обречен на размышления о жизни и смерти и в этом его отличие от животного, которое смертно, но не знает об этом. Смерть вообще - расплата за усложнение биологической системы. Одноклеточные практически бессмертны и амеба в этом смысле счастливое существо.
Когда организм становится многоклеточным, в него как бы встраивается механизм самоуничтожения на определенном этапе развития, связанный с геномом.
Столетиями лучшие умы человечества пытаются хотя бы теоретически опровергнуть этот тезис, доказать, а затем и воплотить в жизнь реальное бессмертие. Однако идеалом такого бессмертия является не существование амебы и не ангельская жизнь в лучшем мире. С этой точки зрения человек должен жить вечно, находясь в постоянном расцвете сил. Человек не может смириться с тем, что именно ему придется уйти из этого великолепного мира, где кипит жизнь. Быть вечным зрителем этой грандиозной картины Вселенной, не испытывать "насыщения днями" как библейские пророки - может ли быть что-то более заманчивым? Но, размышляя об этом, начинаешь понимать, что смерть - пожалуй, единственное, перед чем все равны.
Но даже если человек руководствуется в своей жизни определенными нравственными целями и использует для их достижения адекватные им средства, он знает, что не всегда и не во всех случаях может добиваться желаемого результата, который в нравственных категориях обозначался во все времена как добро, правда, справедливость... И возникает вопрос: что ж, жизнь его - единственная и неповторимая - в какой-то мере уравнивается с жизнью тех, кто живет бесцельно, бессмысленно и безнравственно, творит зло, ложь и несправедливость? Вопрос этот тем более значим, что жизнь каждого человека не бесконечна, а обрывается смертью, выбытием. Не теряют ли вследствие этого смысл определения ее в нравственных категориях добра и зла, правды и лжи, справедливости и несправедливости? Все ли проходит в бытии человеческом и все ли «уравнивается» в небытии? Люди всегда искали выхода из этого удручающего противоречия, которое, казалось, должно подорвать нравственные основы человеческого бытия. И находили его вначале в религиозном постулате о «бессмертии души» и «загробном воздаянии», а потом - в представлениях об «абсолютном разуме» и «абсолютных моральных ценностях», создающих якобы основу нравственного существования человека. А средневековые алхимики , как известно, веками искали чудодейственный «эликсир жизни».
Замечено, что мудрость человека часто выражается в спокойном отношении к жизни и смерти. Как сказал Махатма Ганди: "Мы не знаем, что лучше - жить или умереть. Поэтому нам не следует ни чрезмерно восхищаться жизнью, ни трепетать при мысли о смерти. Мы должны одинаково относиться к ним обоим. Это идеальный вариант". А еще задолго до этого в "Бхагавадгите" сказано: "Воистину, смерть предназначена для рожденного, а рождение неизбежно для умершего. О неизбежном - не скорби".
Вместе с тем, немало великих людей осознавали эту проблему в трагических тонах. Выдающийся отечественный биолог, размышлявший о возможности "воспитания инстинкта естественной смерти", писал о: "Когда Толстой, терзаемый невозможностью решить эту задачу и преследуемый страхом смерти, спросил себя, не может ли семейная любовь успокоить его душу, он тотчас увидел, что это - напрасная надежда. К чему, спрашивал он себя, воспитывать детей, которые вскоре очутятся в таком же критическом состоянии, как и их отец? Зачем мне любить их, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия? Любя их, я не могу скрывать от них истины, - всякий шаг ведет их к познанию этой истины. А истина - смерть".
Осознавая конечность своего земного существования и задаваясь вопросом о смысле жизни, человек начинает вырабатывать собственное отношение к жизни и смерти. И вполне понятно, что тема эта, быть может наиважнейшая для каждого человека, занимает центральное место во всей культуре человечества. История мировой культуры раскрывает извечную связь поисков смысла человеческой жизни с попытками разгадать таинство выбытия, а также со стремлением жить вечно и если не материально, то хотя бы духовно, нравственно победить смерть.
Поисками ответа на этот вопрос занимались и занимаются и мифология, и различные религиозные учения, и искусство, и многочисленные направления философии. Но в отличие от мифологии и религии, которые, как правило, стремятся навязать, продиктовать человеку определенные его решения, философия, если она не является догматической, апеллирует прежде всего к разуму человека и исходит из того, что человек должен искать ответ самостоятельно, прилагая для этого собственные духовные усилия. Философия же помогает ему, аккумулируя и критически анализируя предшествующий опыт человечества в такого рода поисках.
Последовательно проводимый философский материализм отрицает какую бы то ни было возможность личного физического бессмертия для человека, не оставляет ему надежды на «загробную жизнь». Поэтому продуманно, осмысленно принимая материалистическое мировоззрение, человек делает трудный шаг, требующий личного мужества и силы духа, того, что в философии называется стоицизмом, поскольку отказывается тем самым от возможности утешения, хотя бы и иллюзорного. Трудность этого шага усугубляется еще и тем, что накопленный человечеством нравственный опыт долгое время осмысливался в рамках религиозных систем, а знание обосновываемых ими моральных ценностей подпиралось ссылками на суд и воздаяние, которые ожидают каждого после смерти. «Если бога нет, то все дозволено»,- провозглашал герой. И действительно, как показал ХХ век, насильственное массированное навязывание людям материалистического мировоззрения, когда принятие такового служит всего лишь удостоверением политической благонадежности человека, а не является результатом его собственной основательной внутренней работы, когда оно, что называется, не выстрадано индивидом, не прошло через очистительный огонь сомнения, неизбежно влечет за собой серьезные вздержки в нравственном развитии. А это особенно тревожно и опасно ныне, когда деятельность человека как в научно-техническом, так и в социальном плане становится столь масштабной по своим последствиям и потому требует особо ответственного к себе отношения.
Как видим, материалистическая философия не только не снимает вопроса о смысле человеческой жизни, о смерти и бессмертии, но, напротив, позволяет его поставить в наиболее острой, даже драматической форме, тем самым в полной мере выявляя его гуманистическое содержание.
Человек в поисках смысла. Смысл жизни.
Поиск человеком смысла является первичной движущей силой в его жизни…. Смысл уникален и специфичен потому, что он должен и может быть реализован именно этим человеком и никем другим; только тогда он приобретает значимость, удовлетворяющую его собственное стремление к смыслу. Есть мнение, что смыслы и ценности суть «не что иное, как защитные механизмы, формирования реакций и сублимации». Что касается меня, то я не хотел бы жить просто ради моих «защитных механизмов», равно как и не согласился бы умереть ради моих «формирований реакций». Человек, однако, способен жить и даже умереть ради его идеалов и ценностей. Несколько лет назад во Франции проводился опрос общественного мнения. Как показали результаты, 89% опрошенных признали, что человеку нужно «что-то такое», ради чего стоит жить. Более того, 61% согласились, что в их жизни есть что-то или кто-то, ради чего или кого они согласились бы умереть.
Смысл жизни отличается от человека к человеку, со дня на день и от часа к часу. Следовательно, важен не смысл жизни в общем, но, скорее, специфический смысл жизни личности в данный момент. Постановку вопроса в общих терминах можно сравнить с вопросом, поставленным чемпиону мира по шахматам: «Скажите, учитель, какой самый хороший ход в мире?» Просто не существует такой вещи, как лучший или даже хороший ход независимо от конкретной ситуации в игре и конкретной личности противника. То же самое справедливо и по отношению к человеческому существованию. Нельзя заниматься поиском абстрактного смысла жизни. У каждого человека имеется свое собственное призвание в жизни; каждый должен иметь задачу, которая требует разрешения. Никто не может повторить его жизни. То есть у каждого человека его задача уникальна, как и его специфические возможности выполнения. Поскольку каждая ситуация в жизни представляет вызов человеку и проблему, требующую разрешения, вопрос о смысле жизни может быть инвертирован. В конечном счете, человек не должен спрашивать, в чем смысл его жизни, но скорее он должен осознавать, что это он сам - тот, кого спрашивают. Живущему в мире человеку вопросы задает жизнь, и он может ответить жизни, только отвечая за свою собственную жизнь. Он может дать ответ жизни, только принимая ответственность на себя.
В отличие от животных инстинкты не диктуют человеку, что ему нужно, и в отличие от человека вчерашнего дня, традиции не диктуют сегодняшнему человеку, что ему должно. Не зная ни того, что ему нужно, ни того, что он должен, человек утратил ясное представление о том, чего же он хочет. В итоге он либо хочет того же, чего и другие (конформизм), либо делает то, что другие хотят от него (тоталитаризм).
Смысл должен быть найден, но не может быть создан. Создать можно лишь субъективный смысл, простое ощущение смысла, либо бессмыслицу. Смысл не только должен, но и может быть найден, и в поисках смысла человека направляет его совесть. Одним словом, совесть - это орган смысла. Ее можно определить как способность обнаружить тот единственный и уникальный смысл, который кроется в любой ситуации. Смысл - это всякий раз также и конкретный смысл конкретной ситуации. Это всегда ”требование момента”, которое всегда адресовано конкретному человеку. И как неповторима каждая отдельная ситуация, так же уникален и каждый отдельный человек.
Каждый день и каждый час предлагают новый смысл, и каждого человека ожидает другой смысл. Смысл есть для каждого, и для каждого существует свой особый смысл. Из всего этого вытекает, что смысл должен меняться как от ситуации к ситуации, так и от человека к человеку. Однако смысл вездесущ. Нет такого человека, для которого жизнь не держала бы наготове какое-нибудь дело, и нет такой ситуации, в которой нам бы не была предоставлена жизнью возможность найти смысл.
Человек не только ищет смысл в силу своего стремления к смыслу, но и находит его, а именно тремя путями. Во-первых, он может усмотреть смысл в действии, в создании чего-либо. Во-вторых, он видит смысл в том, чтобы переживать что-то, и, наконец, он видит смысл в том, чтобы кого-то любить. Но даже в безнадежной ситуации, перед которой он беспомощен, он способен видеть смысл.
В жизни не существует ситуаций, которые были бы действительно лишены смысла. Это можно объяснить тем, что представляющиеся нам негативными стороны человеческого существования - в частности, трагическая триада, включающая в себя страдание, вину и смерть, - также могут быть преобразованы в нечто позитивное, в достижение, если подойти к ним с правильной позиции и с адекватной установкой.
Любовь - это единственный способ постижения другого человеческого существа во всей глубине его личности. Никто не может полностью понять самую сущность другого человеческого существа до тех пор, пока он не полюбит его. Посредством духовного акта любви он обретает способность видеть сущностные черты и свойства любимого человека; и даже более того, он начинает видеть то, что потенциально содержится в нем, то, что еще не реализовано, но должно быть реализовано. Кроме того, своей любовью любящая личность делает возможным для любимого человека актуализировать эти возможности. Помогая ему осознать, чем он может быть и чем он должен стать, он делает возможным их осуществление.
В тех случаях, когда человек сталкивается с невыносимой и неизбежной ситуацией, когда он имеет дело с судьбой, которую невозможно изменить, например, с неизлечимой болезнью, такой как, скажем, неоперабельный рак, именно тогда человеку дается последний шанс осуществить высшую ценность, реализовать самый глубокий смысл, смысл страдания. Ибо самое важное - это позиция, которую мы принимаем по отношению к страданию, позиция, при которой мы берем на себя это страдание.
Нет нужды говорить, что страдание не будет иметь смысла, если оно не абсолютно неизбежно; например рак, который может быть вылечен хирургическим путем, не должен приниматься пациентом как его крест, который он должен нести. Это было бы мазохизмом скорее, нежели героизмом.
Осуществляя смысл, человек реализует сам себя. Осуществляя же смысл, заключенный в страдании, мы реализуем самое человеческое в человеке. Мы обретаем зрелость, мы растем, мы перерастаем самих себя. Именно там, где мы беспомощны и лишены надежды, будучи не в состоянии изменить ситуацию, - именно там мы призваны, ощущаем необходимость измениться самим.
Существует определение, гласящее, что смыслы и ценности - не что иное, как реактивные образования и механизмы защиты. Но являются ли смыслы и ценности столь относительными и субъективными, как полагают? Смысл относителен постольку, поскольку он относится к конкретному человеку, вовлеченному в особую ситуацию. Можно сказать, что смысл меняется, во-первых, от человека к человеку и, во-вторых, - от одного дня к другому, даже от часа к часу. Конечно, предпочтительнее говорить об уникальности, а не об относительности смыслов. Уникальность, однако, - это качество не только ситуации, но и жизни как целого, поскольку жизнь - это вереница уникальных ситуаций. Человек уникален как в сущности, так и в существовании. В предельном анализе никто не может быть заменен - благодаря уникальности каждой человеческой сущности. И жизнь каждого человека уникальна в том, что никто не может повторить ее. Нет такой вещи, как универсальный смысл жизни, есть лишь уникальные смыслы индивидуальных ситуаций. Однако среди них есть и такие, которые имеют нечто общее, и, следовательно, есть смыслы, которые присущи людям определенного общества, и даже более того - смыслы, которые разделяются множеством людей на протяжении истории. Эти смыслы и есть то, что понимается под ценностями. Таким образом, ценности можно определить как универсалии смысла, кристаллизующиеся в типичных ситуациях, с которыми сталкивается общество или даже все человечество.
Обладание ценностями облегчает для человека поиск смысла, по крайней мере в типичных ситуациях, он избавляет от принятия решений. Но, к сожалению, ему приходится расплачиваться за это облегчение, потому что в отличие от уникальных смыслов, пронизывающих уникальные ситуации, может оказаться, что две ценности входят в противоречие друг с другом. А противоречия ценностей отражаются в душе человека в форме ценностных конфликтов.
Впечатление, что две ценности противоречат друг другу, является следствием того, что упускается целое измерение. Что это за измерение? Это иерархический порядок ценностей. По Максу Шеллеру, оценивание имплицитно предполагает предпочтение одной ценности другой. Ранг ценности переживается вместе с самой ценностью. Иными словами, переживание определенной ценности включает переживание того, что она выше какой-то другой. Следовательно, приходим к выводу, что для ценностных конфликтов нет места. Однако переживание иерархического порядка ценностей не избавляет человека от принятия решений.
Влечения толкают человека, ценности - притягивают. Человек всегда волен принять или отвергнуть ценность, которая предлагается ему ситуацией. Это справедливо также относительно иерархического порядка ценностей, которые передаются моральными и этическими традициями и нормами. Они должны пройти проверку совестью человека - если только он не отказывается подчиняться своей совести и не заглушает ее голоса.
Смысл - это то, что имеется в виду человеком, который задает вопрос, или ситуацией, которая тоже подразумевает вопрос, требующий ответа. Конечно, человек свободен в ответе на вопросы, которые задает ему жизнь. Но эту свободу не следует смешивать с произвольностью. Ее нужно понимать с точки зрения ответственности. Человек отвечает за правильность ответа на вопрос, за нахождение истинного смысла ситуации. А смысл - это нечто, что нужно скорее найти, чем придать, скорее обнаружить, чем придумать.
Смыслы не могут даваться произвольно, а должны находиться ответственно. Смысл следует искать при помощи совести. И действительно, совесть руководит человеком в его поиске смысла. Совесть может быть определена как интуитивная способность человека находить смысл ситуации. Кроме того, что совесть интуитивна, она является творческой способностью. Совесть также обладает способностью обнаруживать уникальные смыслы, противоречащие принятым ценностям. Живая, ясная и точная совесть - единственное, что дает человеку возможность сопротивляться эффектам экзистенциального вакуума - конформизму и тоталитаризму.
О долголетии человеческой жизни.
Уже на самых ранних этапах истории медицинской науки ставился вопрос, как сохранить здоровье, как продлить жизнь человека, как отдалить старость. Ещё врач древности Гиппократ давал советы, как сохранить здоровье и удлинить свою жизнь. В 1 веке нашей эры известный римский философ поэт и государственный деятель Луций Анней Сенека утверждал, что “кратковременность жизни мы не получаем, а создаем ее сами”. Для него уже было понятно, что наследственных генетических особенностей организма еще недостаточно для того чтобы прожить долгую жизнь. Чтобы у человека не укорачивалась жизнь, ему нужно создавать благоприятные условия существования.
Особенно много внимания долголетию и старости уделил ученый, естествоиспытатель, врач, философ Авиценна. Он уже понимал что старение - это естественный процесс развития организм, который ведет к физиологическим изменениям. В своем знаменитом произведении “Канон врачебной науки” Авиценна писал: “С самого начала мы представляем собой крайнюю важность. Усыхание, которое происходит в нашем теле, есть необходимость, которую нельзя избежать”.
Продление жизни может ставиться как некоторая научная и социально-осознанная цель, но тогда возникает вопрос: для чего это необходимо личности и обществу? И с точки зрения сугубо гуманистической, согласно которой ценность длительной человеческой жизни является самоочевидной, самодостаточной, и с социальной, учитывающей общественную значимость как можно более длительного сохранения развитой человеческой индивидуальности, обогащенной знаниями, опытом жизни и мудростью, увеличение нормальной социальной продолжительности жизни за счет ограничения и полного вытеснения в будущем патологического социального старения представляется прогрессивным процессом и в отношении отдельных личностей, и в отношении человеческого общества в целом.
Иное дело - биологическая продолжительность жизни человека, то есть ее видовое время, эволюционно-генетически закодированное и предполагающее индивидуальное чередование жизней как условие существования человечества. Здесь возникает много новых научных вопросов, обращенных в основном к биологии, но они также не могут рассматриваться в отрыве от социальных и нравственно-гуманистических, определяемых общим решением проблемы, относящейся к сущности и смыслу человеческой жизни. В современных концепциях, касающихся этих проблем, утверждается идея о возможности и необходимости достижения с помощью научных методов максимума видовой (биологической) продолжительности жизни человека. На это направлены сейчас главные усилия ученых. В связи с рассмотрением разнообразных искусственных способов продления жизни (трансплантация, технология бионики, криобиология, генная инженерия и др.) говорится даже о том, что человечество стоит «на пороге новой эры, когда медицина превратит Homo sapiens в Homo Iongevus - сверхдолгожителей, когда мужчины и женщины в зрелые годы полностью сохранят и умственную в физическую бодрость. А если это так, то нам придется взглянуть на жизнь совсем иными глазами».
Какого же предельного возраста может достичь человек? Сохранились исторические сведения, согласно которым основатель аббатства в Глазго Кэнгигер умер в 600 году в возрасте 185 лет. По данным венгерских летописцев 17 века, наблюдались случаи долголетия в 147 и 172 года. В Норвегии некий Дракенберг прожил 142 года.
Важно, однако, иметь в виду, что новое видение жизни должно исходить прежде всего из гуманистических идеалов и ценностей, из четкого определения смысла того, для чего человеку надо жить дольше, чем обусловлено нормальными возрастными параметрами, соответствующими индивидуальным особенностям личности. Эти личностные установки, которые во многом зависят от социальных условий, но и оказывают обратное воздействие на них, позволят определить меру человеческой жизни, в которой биологическое диалектически соединено с социальным, этическим, гуманистическим ее пониманием. Такая мера тесно связана с оптимальной реализацией сущностных сил человека. Следовательно, не сама по себе длительность индивидуальной жизни окажется целью науки и общества, и тем более самого человека, а именно развитие богатства человеческой природы, степень причастности личности к коллективной жизни человечества и ее участия в реализации идеи неограниченного развития человека как общественного существа будут определять индивидуальные параметры, согласуемые с биологическими возможностями жизни человека.
Проблема смерти. Смысл смерти.
У полузабытого русского философа есть оригинальное сочинение “Мир как целое”, где одна из глав называется “Значение смерти”.
“Смерть-это финал оперы, последняя сцена драмы, - пишет автор, - как художественное произведение не может тянуться без конца, но само собою обосабливается и находит свои границы, так и жизнь организмов имеет пределы. В этом выражается их глубокая сущность, гармония и красота, свойственная их жизни. Если бы опера была только совокупность звуков, то она могла бы продолжаться без конца, если бы поэма была только набором слов, то она также не могла иметь никакого естественного предела. Но смысл оперы и поэмы, существенное содержание требуют финала и заключения”.
Мысль интересная. Действительно в хаосе нет ни начала ни конца. Только организованные тела способны развиваться в определенном направлении. Но всякая организация имеет предел своего совершенствования. Достигнув его, остается либо сохранять устойчивость, либо деградировать.
“Если бы какой-нибудь организм, - продолжает Страхов, - мог совершенствоваться без конца, то он никогда бы не достигал зрелого возраста и полного раскрытия своих сил, он постоянно был бы только подростком, существом которое постоянно растет и которому никогда не суждено вырасти. Если бы организм в эпоху своей зрелости стал вдруг неизменным, следовательно, представил бы только повторяющиеся явления, но в нем прекратилось бы развитие, в нем не происходило бы ничего нового, следовательно, не могло бы быть жизни. Итак, одряхление и смерть есть необходимое следствие органического развития, они вытекают из самого понятия развития, Вот те общие понятия и соображения, которые объясняют значение смерти”.
Как только проясняется смысл смерти, тотчас появляется для нее оправдание. Более того, она начинает мыслиться как великое благо! Это уже не просто количественное ограничение живых существ, способных к чересчур быстрому размножению. Речь идет об умирании достигших совершенства особей не только ради освобождения арены жизни, но и для возможности достижения более высокого уровня совершенств и поддержания наивысшей биологической активности живого вещества.
Проблема смерти приобретает центральное значение у Фрейда. И центральной является именно проблема смерти, связанная неразрывно с проблемой времени. Проблема бессмертия вторична, и она обычно неверно ставилась. Смерть есть самый глубокий и самый значительный факт жизни, возвышающий самого последнего из смертных над обыденностью и пошлостью жизни.
Только факт смерти ставит в глубине вопрос о смысле жизни. Жизнь в этом мире имеет смысл именно потому, что есть смерть. Смысл связан с концом. И если бы не было конца, т. е. если бы была дурная бесконечность жизни, то смысла в жизни не было бы. Смерть - предельный ужас и предельное зло - оказывается единственным выходом из дурного времени в вечность, и жизнь бессмертная и вечная оказывается достижимой лишь через смерть.
Кошмар смерти всегда преследовал людей. Он порождал специфические представления о трагизме жизни. “Смерть не имеет образа - говорит байроновский Люцифер - но все, что носит вид земных существ, поглотит. ”Конечность человеческого существования неотвратимо ставит вопрос о смысле земного удела, о предназначении жизни. Несомненно проблема смерти относится к числу фундаментальных, затрагивает предельные основания бытия.
Философы, которые обращались к теме смерти, нередко пишут о том, что в различных культурах эта тема переживалась по-разному. В иные эпохи страх смерти и вовсе отсутствовал: люди находили в себе силы противостоять угрозе физического уничтожения. Античные греки, например, учили преодолевать ужас небытия путем концентрации духа, усилием животворной мысли, воспитывать в себе презрение к смерти. Людей средневековья, напротив, предстоящая смерть доводила до исступления. Ни одна эпоха, как свидетельствует нидерландский историк и философ Йохан Хейзинга, не навязывает человеку мысль о смерти с такой настойчивостью, как XV столетие.
Если мы поставим вопрос: что служит основанием для того, чтобы сравнивать, как воспринимают смерть в различных культурах, эпохах, то обнаруживается парадоксальная вещь. Как правило, сопоставляются обычно философские высказывания. “Ведь какое-то чувство умирания может быть у человека - пишет, например, Цицерон. Все это мы должны думать еще в молодости, чтобы могли призирать смерть; без такого размышления быть спокоен душой не может быть никто; ведь умереть нам, как известно, придется, быть может, даже сегодня. ”Вот оно - презирать смерть…А средневековй мыслитель Мейстер Экхатр, напротив, пишет о том, как трудно дается человеку отрешенность от мирских благ… Выходит, было время, когда смерти не боялись, страх перед угрозой физического уничтожения был не всегда. Но в какой мере можно доверять философской мысли? Ведь нередко выраженное в суждении презрение к смерти как раз и отражает ужас перед нею.
Страх перед смертью заложен в самой человеческой природе, в самой тайне жизни. Он изначален, то есть коренится в глубинах человеческой психики. Однако в конкретной эпохе, через призму определенных духовных ценностей этот страх обретает различные преображенные формы. Вот они-то и находили отражение в стойких религиозно-практических установках. Культура постоянно воспроизводит жизненные ситуации, с которыми люди встречаются во все времена. Речь идет о проблемах долга, любви, жертвы, трагедии, героизма, смерти. Однако, культура вовсе не движется по кругу, возвращаясь вновь и вновь к одним и тем же мотивам. В каждую эпоху эти ценности приобретают новое содержание, диктуемое не только постоянной, фиксируемой природой человека, но и социальной действительностью, в которой эта природа раскрывается. Точно так же проблемы смерти, хотя и преследуют человечество исстари, все же получают разное истолкование в различных религиозных традициях.
Каждая культура вырабатывает определенную систему ценностей, в которой переосмысливаются вопросы жизни и смерти. Она творит также определенный комплекс образов и символов, с помощью которых обеспечивается психологическое равновесие индивидов. Человек, разумеется, располагает отвлеченным знанием о факте неотвратимой смерти. Но он пытается, опираясь на существующую в данной культуре символику, сформировать более конкретное представление о том, что делает возможной полноценную жизнь перед фактом неизбежной гибели.
По мнению психологов, такая система начинает складываться в психике человека уже в раннем детском возрасте. Образ, который возникает в подсознании человека в связи с его рождением, когда плод отделяется от матери, позднее трансформируется в некий прообраз ужаса перед смертью. Он ищет способы уйти от тления, увековечить себя, постоянно ощущая присутствие смерти.
Выживание человека предполагает, что в его психике закрепляются символические образы, которые позволяют наполнить земное существование смыслом. Это психологическое равновесие приходится все время поддерживать, подкреплять. Такая потребность присуща не только отдельному человеку. Культуру в целом тоже может войти в состояние разлада и сумятицы, разрушить присущее ей философско-гармоническое восприятие жизни и смерти. Когда возникает опасность для жизни отдельного человека или целого народа, образы символического бессмертия становятся более четко выраженными, обостренными, интенсивными.
Но можно ли каким-то образом типологизировать различные формы отношения к смерти? Безусловно. Сравнение мировых религий, далеких культур показывает, что черту между жизнью и смертью люди воспринимают по-разному. Считают, например, что между земной и загробной жизнью нет никакой разницы, но полагают также, что такая разница есть. В то же время различение подлунного и иного бытия принимает разные формы. Попробуем проиллюстрировать это на примере различных культур.
Отношение к смерти в древних культурах носит в основном эпический характер, то есть она не воспринимается как личная трагедия. Кончина человека толкуется как закономерное завершение определенного жизненного цикла. Лирические и трагические акценты еще отсутствуют.
Многочисленные и разнохарактерные представления о смерти, которые сложились в мировой культуре, можно, по-видимому, в известной мере разделить по каким-то признакам. Выделим прежде всего дохристианские и христианские воззрения. Отметим также, что восточные культуры в отличие от западных сохранили в себе веру в оригинальную силу космологий, религиозных и философских систем, в которых смерть не рассматривается как абсолютное завершение существования. Присущие им концепции посмертного бытия имеют весьма широкий спектр, включающий в себя спектр представлений от высоких состояний сознания до конкретных образов другого мира, напоминающую земную жизнь. Во всех этих верованиях смерть не отождествляется с полным исчезновением индивида. Христианство признавало конечность индивидуального существования. Массовое воскрешение трактовалось лишь как завершение земной истории.
История человеческой цивилизации содержит волнующую летопись многочисленных попыток древнейших культур сохранить жизнь и избежать смерти. Во многих культурах предполагалось, что каждый может должным образом подготовиться к смерти, если он при этом обретет нужное знание о процессе умирания. В литературных памятниках, известных как “Книги мертвых”, излагается детализированное описание смерти и руководства по поводу того, как сделать процесс умирания более полным (неподготовленный человек сопротивляется смерти и оказывается в промежуточном состоянии) и последовательным. Наиболее известные из этих произведений Египетская Книга мертвых и Тибетская Книга мертвых. Однако подобные тексты существовали и в индийских, мусульманских и других традициях.
Восприятие смерти в культурах, где еще индивид не выделился из племени, из рода, естественно, отличается от толкования этого феномена там, где господствует персоналистская идея (идея личности). В тех обществах, в которых процесс индивидуализации зашел не очень далеко, конец индивидуального существования не оценивается как проблема, поскольку слабо развито само ощущение индивидуального существования. Смерть еще не воспринимается как нечто радикально отличное от жизни. Совсем иначе оценивается смерть в тех культурах, где осознается ценность, суверенность и уникальность личности. Здесь хрупкость земного бытия воспринимается трагически, пронизывает всю человеческую субъективность, то есть мир его переживаний, внутренних состояний.
Как правило, взгляды на смерть тесно связаны с религиозными воззрениями. Нельзя, например, представить античного, индуистского, мусульманского, христианского человека и его воззрения на смерть, не выяснив предварительно, что являли собой верования египтян, греков, мусульман, индийцев, христиан.
Смерть в мифологических представлениях древних народов не является естественным, неизбежным явлением, а представляет собой результат козней злых духов, которые пробираясь в организм человека постепенно уничтожают его. Поэтому согласно мифологическим представлениям, люди должны бороться со злыми духами и божествами, которые несут смерть человеку. В древнегреческих мифах повествуется о том, как Зевс, рассердившись на Сизифа за измену, послал к нему Смерть, но Сизиф заковал ее в крепкие оковы, и люди перестали умирать. Однако Аид освободил Смерть от оков, и она одолела Сизифа. Греческая мифология.
Некоторые древние религии допускали, что между земным и посмертным существованием нет никакой разницы. Однако эта общая констатация имела все-таки оттенки. В одном случае предполагалось, что здесь, в подлунном мире, все также, как и в потустороннем. В другом (взгляд бросался как бы “оттуда”) допускалось, что в том посмертном существовании ничего не меняется по сравнению с земным. Иначе говоря, жизнь земная и последующая не разделялись, но акцент делался все же на то обстоятельство, что является изначальной точкой отсчета – этот или тот мир. (“Там” так же, как “здесь”, “здесь” так же, как “там”)
В древнекитайском сознании, например, факт смерти оценивался как нечто, не имеющее глубокого бытийственного значения. Иначе говоря, если человек умер, никакой трагедии в этом нет. Он все равно остается среди живых, но уже как усопший. Здесь так же, как и там. Мертвый уходит от живых условно, в каком-то ограниченном смысле. Он нас не покидает. Мир плотно заселен “живыми мертвецами”. Они перешли в другое состояние, но не ушли в иной мир. Вот почему в этой культуре символика смерти носила земной характер. За богдыханом (императором Китая) повсюду следовал гроб, который считался атрибутом его земного существования. Заблаговременная подготовка могилы для престарелых родителей считалось актом заботы и милосердия. Покинув часть земного мира, усопший отправлялся к другим людям, которые умерли раньше, но все же никуда не исчезли. Отсюда культ предков, который весьма характерен для этой культуры.
Не разделяли земной и потусторонний мир и египтяне. Но они, скорее, подчеркивали сходство загробного мира с подлунным там так же, как здесь. Смерть считалась прелюдией к загробному бытию. Египтяне возлагали надежды на нетленность тела того человека, власть которого была нерушимой при жизни. Тленность, по их представлениям, оставалось нерушимой. Культ мертвых составлял важнейшую характеристику египетской культуры. Искусство бальзамирования и мумифицирования, строительство грандиозных гробниц, увековечивание памяти ушедших – все служило одной цели: обеспечить символическое бессмертие. Еще в эпоху Древнего Царства
(XXIX-XIX вв. до н. э.) египтяне полагали, что души умерших соединяются со звездами. Каждую ночь душа усопшего вновь поселяется в теле, покидая ради этого звезду…
По имеющимся данным, в истории человечества две культуры обнаружили особенно острый интерес к смерти и процессу умирания: культуры египтян и тибетцев. Тогда разделяли глубокую веру в то, что сознание продолжает жить после смерти. Они предлагали хорошо разработанные ритуалы, позволяющие как можно легче прейти в новое состояние, вычерчивали сложные схемы, в которых отражали странствия души.
Египетская Книга мертвых – коллекция молитв, магических звучаний и мифологических историй, которые относятся к смерти и загробной жизни. Материалы этих текстов разноречивы. Они отражают исторический конфликт между двумя сильными религиозными традициями – жрецами Бога Солнца и последователями Озириса. (В древнеегипетской мифологии бог умирающей и воскрешающей природы) С одной стороны они предлагают священное знание, позволяющее обеспечить вечное благословенное существование под сенью солнечного божества, вместе с ним странствуя по кругу. С другой стороны, тексты отражают традицию древнего Бога смерти, который, согласно легенде, был убит своим братом Сетом. После возрождения он стал правителем другого мира. Согласно этой традиции мертвые ритуально отождествляют себя Озирисом и никогда не могут вернуться к жизни вновь.
Итак, в древнекитайской и древнеегипетской культурах жизнь и смерть в известной мере уравнены. Здесь нет и намека на то, что жизнь – это благо, а смерть - это зло. Оба мира равноценны, хотя и разделены некой чертой.
Иначе оценивается эта проблема в индийском религиозном сознании. Согласно буддизму все существа берут свое начало в Брахмане, безличном абсолютном духовном начале, из которого возникает мир. Брахман лежит в основе всего существующего. Все в конечном счете должно вернуться к нему. Поэтому смерть лишь переход от низшей ступени к высшей, продолжающейся с тех пор, пока дух не достигнет наконец такой степени чистоты и совершенства, чтобы войти в мировую душу, к чему стремится все существующее на земле. Мировая душа - это отражение всего бытия, мировой дух - активное, созидательное начало души.
Однако достойны этого лишь те, кто откажется от всяких чувственных наслаждений, кто в своем стремлении к святости отрешится от материального мира, умертвит плоть, разобьет оковы, отягчающие его душу. А таковы одни браманы. Тот же, кто вопреки священным законам противятся вечному, божественному, после смерти подвергнется адским мукам. Душа его в зависимости от степени греховности соединится
путем нового рождения с более или менее низменным существом и принуждена будет странствовать, не находя себе покоя в юдоли печали до тех пор, пока не обретет вечное успокоение в царстве Брамы.
В отличие от христианства, где отпущение грехов, достижение вечного блаженства связывали с божественным милосердием, брамины полагали, что только сам человек может искупить свои грехи, только собственными силами может добиться прощения. Отвергнув идею бессмертия тела, индусы придерживались концепции бессмертия души. Тело для индусов всегда презренно и должно быть предано огню тотчас же после смерти. Бессмертная же душа прейдет в новое тело, и этот процесс будет все повторяться и повторяться, пока душа не исчезнет и не сольется с душой вселенной. Идея беспрерывного перерождения, возвращения человека на землю в новых телесных облачениях и составляет смысл идеи реинкарнации, то есть многочисленных возрождений души.
Из учения о переселении душ следовали строгие предписания о покаянии. Куда бы ни обратил свой взор вечно трепещущий индус, и на этом и на том свете его ожидала суровая кара. Всякое живое существо жаждет освобождения. Для индуса его не существовало. Разумеется, в принципе индус мог, совершенствуя себя, стать брамином, но это не определяло в последний степени его последующую карму. Жизнь была для него бесконечным паломничеством, полным горьких разочарований, ужасных страданий, непосильных обязанностей, без ободряющей надежды на то, что “вечно движущееся колесо” когда-нибудь остановится без одухотворяющей силы любви, без благородной поддержки сострадания, и даже смерть не гарантировала избавления от мучений. Впоследствии самоубийство сделалось даже религиозном долгом. Итак, в индийском мироощущении земной и загробный мир разделены, но предпочтение не жизни а смерти.
Древние евреи принимали факт смерти реалистично и были способны примириться с мыслью о прекращении индивидуальной жизни. Иудеи полагали, что личность человека раздвоена, поскольку имеет некую тень, представляющую собой бледную и внетелесную копию индивида. После смерти эта тень спускается под землю, где в мрачных покоях обретает грустное и мрачное существование. Предполагалось, что Яхве оденет в плоть разбросанные кости, оживит мертвых для новой жизни. Поэтому рай рисовался обителью блаженных, ад же, напротив, был средоточием грязи и навоза.
В кабалистической традиции евреи развили учение о переселении душ. В устной передаче религиозной заповедей говорилось о том, что душа Адама перешла в Давида, а потом “вдохнется” в мессию, то есть в ниспосланного Богом спасителя (царь Израильско-Иудейского государства в конце XI в. – около 950 г до н. э.). Странствия души прихотливы, она может принять телесную оболочку животного, превратиться в листья деревьев и даже камни. При этом в древнееврейской традиции человек трактуется не только как природное, но и как сверхприродное существо, которое находится в живом и трепетном контакте с богом. Поэтому возникает и новая интерпретация смерти. Иудее утешали себя ожиданием того царства счастья и справедливости, к которому должно в конце концов прийти человечество. В целом же эта концепция отличается пессимизмом, и жизнь и посмертное существование выглядят в ней безрадостно.
Мировая религия - ислам - исходит из факта сотворенности человека волей всемогущего Аллаха, который, прежде всего, милосерден. На вопрос человека: "Разве, когда я умру, я буду известен живым?", Аллах дает ответ: "Разве не вспомнит человек, что мы сотворили его раньше, а был он ничем?". В отличие от христианства, земная жизнь в исламе расценивается высоко. Тем не менее, в Последний день все будет уничтожено, а умершие воскреснут и предстанут перед Аллахом для окончательного суда. Вера в загробную жизнь является необходимой, поскольку в этом случае человек будет оценивать свои действия и поступки не с точки зрения личного интереса, а в смысле вечной перспективы.
Разрушение всей Вселенной в день Справедливого суда предполагает творение совершенно нового мира. О каждом человеке будет представлена "запись" деяний и мыслей, даже самых тайных и вынесен соответствующий приговор. Таким образом, восторжествует принцип верховенства законов морали и разума над физическими закономерностями. Морально чистый человек не может находиться в униженном положении, как это имеет место в реальном мире. Ислам категорически запрещает самоубийство. Описание рая и ада в Коране полны ярких подробностей, дабы праведники могли полностью удовлетвориться, а грешники получить по заслугам. Рай - это прекрасные "сады вечности, внизу которых текут реки из воды, молока и вина"; там же "чистые супруги", "полногрудые сверстницы", а также "черноокие и большеглазые, украшенные браслетами из золота и жемчуга". Сидящих на коврах и опирающихся на зеленые подушки обходят "мальчики вечно юные", предлагающие на блюдах из золота "мясо птиц". Ад для грешников - огонь и кипяток, гной и помои, плоды дерева "заккум", похожие на голову дьявола, а их удел - "вопли и рев". Спрашивать Аллаха о смертном часе нельзя, так как знание об этом только у него, а " что тебе дано знать, - может быть, час уже близок".
В целом можно сказать, что древние культуры, как и современные незападные традиции, исходили из того, что процесс умирания неизбежен и является неотъемлемой частью человеческого существования. Сама тема смерти оказывала глубокое воздействие на религию, мифологию, искусство, философию.
В Новое время в европейском сознании произошел радикальный переворот в осмыслении данной проблемы. Технический прогресс стал платой за глубочайшее отчуждение от фундаментальных биологических аспектов существования.
В Новое время в осмыслении смерти в европейском сознании господствует иная традиция – пантеистическая, отождествляющая бога в мир. В этих концепциях, которые складывались еще в мистике средних веков, а затем в натурфилософии эпохи Возрождения, господствовали натуралистические тенденции, растворявшие Бога в природе. Пантеистическая традиция, пронизавшая творчество Спинозы, Гете, Гегеля, отвергала возможность связи природного и сверхприродного через личность. Она приковывала внимание к жизни. Так, Спиноза подчеркивал, что “человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни.” Смерть как некий феномен и человеческая реальность преодолевались странным образом: о ней просто перестали думать, сосредоточив мыслительные усилия на вопросах подлунного мира. Прагматизм как философское течение видел в смерти не закономерное разрешение жизненного процесса, а поражение, болезненное напоминание об ограниченности нашей власти над природой.
Отныне внимание философов приковано к земному миру. “ Признаем чистосердечно,- сообщает французский философ XI в. Мишель Монтень, - что бессмертие обещают нам только Бог и религия; ни природа ни наш разум не говорят нам об этом ”.Однако кризис идеалов Просвещения привел к тому, что в европейской философии возникла тяга к прославлению культа эроса и не просветленных разумом бессознательных жизненных влечений. Особенно отчетливо это проявилось в творчестве Артура Шопенгауэра, Фридриха Ницше, и Освальда Шпенглера.
К этому времени образованный западный человек в основном считал веру в сознательную жизнь после смерти, в загробные странствия души проявлением примитивного страха тех людей, которые не обладают научными знаниями. Истинная романтизация смерти, которая является вызовом жизни, начинается в новейшей западной философии у Шопенгауэра. Немецкий философ пытался создать единое воззрение на судьбы тела и души. Жизнь в системе его рассуждений оценивается как нечто такое, чему лучше было бы вовсе не быть. Земное существование, по его мнению,- это определенного рода промах и случайность.
Шопенгауэр убежден, что развитие космического цикла породило множество несчастий. А человек признан осознать катастрофичность этого процесса, чтобы осмыслить пагубность земного бытия. Философ доказывал, что существа низшей организации блаженнее человека. Ведь они лишены сознания, поэтому и не ведают, что мир дурен, губителен. Откуда взял Данте материал для своего ада? - спрашивает Шопенгауэр. И отвечал: разумеется из нашего действительного мира. Когда же, наоборот, перед Данте возникла задача изобразить небеса и их блаженство, то он оказался в неодолимом затруднении именно потому, что наш мир не дает материала ни для чего подобного.
Животное, рассуждал Шопенгауэр, страшится смерти только бессознательно, инстинктивно. Оно не может выработать ясную картину физической гибели. Человек же не только отдает себе отчет в грядущем исчезновении. Он способен по этой причине страдать. Реальное ощущение предстоящего исхода усиливает его мучения. Вот почему, по Шопенгауэру, счастье ни в коей мере не может рассматриваться как цель человеческого существования.
Предложение о том, что человек способен обрести счастье, Шопенгауэр называет “пагубным заблуждением ”. Исходя из него, невозможно построить логическую картину мира. Она неизбежно будет полна противоречий. Но стоит перейти на противоположную точку зрения – увидеть цель жизни в страданиях, как все парадоксы разрушатся. Все существование человека указывает, что страдания – его настоящий удел, жизнь неотделима от мучений. Появление наше на свет сопровождается плачем. Само бытие человека в сущности трагично, а более всего – исход. Во всем видна печать предопределения.
Где же выход? Шопенгауэр полагает, что на смерть надо смотреть как на главную цель. Ее тень неизбежно лежит на человеческой жизни. Немецкий философ полагал, что в момент смерти разрешается все, что подготовлялось в течение жизни. Итак, ожидание смерти, ее предчувствие, ее возвращение - вот на что способен разумный человек в отличие от животного. Только человеческая воля может отречься от жизни, отвернуться от нее. Такой поэтизации смерти не было ни в одной культуре. Ни один народ не считал смерть благом и не стремился перечеркнуть жизнь. Даже сторонники Будды не отвергали ценности самой жизни, полной различных превратностей и злоключений.
Шопенгауэр решительно отвергает идею личного бессмертия. Более того, считает, что настаивать на вечности самого себя все равно что укреплять заблуждение. Ведь каждый индивид не что иное, как “частная ошибка”, “ложный шаг “, “ концентрация случайности”, что-то такое, чему лучше вовсе не быть.
Проблемам смерти значительное внимание уделили и основатели и сторонники психоанализа: Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, Эрих Фромм.
З. Фрейд пришел к выводу, что в человеке проявляется два основных стремления: тяга к жизни, более или менее идентичная сексуальному влечению, и инстинкт смерти, имеющий целью уничтожении жизни. Он предположил, что инстинкт смерти, сплавленный с сексуальной энергией, может быть направлен либо против самого человека, либо против вне его. При этом он полагал, что инстинкт смерти биологически заложен во всех живых организмов и, следовательно, является необходимой и неустранимой составляющей жизни вообще.
Современная культура, по мнению Фрейда, радикально переосмыслила проблему смерти. Люди гордятся своими достижениями и вроде бы имеют на это право. Но достигнутое господство над временем и пространством, подчинение сил природы, по словам австрийского психиатра , нисколько не уменьшило жажду наслаждений, которая присуща нынешнему человеку. Власть над природой не является единственным условием человеческого счастья. Зачем долгая жизнь, если она так тяжела, так бедна радостями и полна страданиями, что мы готовы приветствовать смерть как избавительницу? “Нас сколько угодно может ужасать определенная обстановка, в которой находились древние рабы на галерах, крестьяне во время тридцатилетней войны, жертвы священной Инквизиции, еврей во время погрома, но мы не можем вжиться в душевный мир этих людей и постичь изменения, происходившие в их восприимчивости по отношению к ощущениям наслаждения и неприятностей вследствие прирожденной нечувствительности, постепенного отупения, потери надежд или мягких форм дурмана ”.
Эрих Фромм пытался уточнить фрейдовскую концепцию смерти. По его мнению, гипотеза о существовании инстинкта смерти обладает тем достоинством, что она отводит важное место разрушительным тенденциям, которые не принимались во внимании в ранних теориях Фрейда. Но биологическое истолкование стихии разрушительства не может удовлетворительно объяснить тот факт, что глубина этой потребности в высшей степени различна у разных индивидов и у разных социальных групп. Если бы предположения Фрейда, размышляет Фромм, были верны, следовало бы ожидать, что сила такого инстинкта, направленного против других или против себя, у всех людей оказалась бы более или менее постоянной. Однако наблюдается обратное: не только между различными индивидами, но и между различными социальными группами существует громадная разница в весе разрушительных тенденций.
Так, например, вес этих тенденций в структуре характера представителей низов европейского среднего класса значительно выше, нежели в среде рабочих или представителей социальной верхушки. Этнографические исследования познакомили нас с целыми народами, для которых характерен особенно высокий уровень разрушительности. Между тем другие народы проявляют столь же заметное отсутствие разрушительных тенденций - как по отношению к другим людям, так и по отношению к себе.
По мнению Фромма, стремление к жизни и тяга к разрушению не является взаимно независимыми факторами, а связаны обратной зависимостью. Чем больше проявляется стремление к жизни, тем полнее жизнь регулируется, тем слабее разрушительные тенденции. Чем больше стремление к жизни подавляется, тем сильнее тяга к разрушению. Как полагал Фромм, наша эпоха просто отрицает смерть, а вместе с ней и одну из фундаментальных сторон жизни: “Вместо того, чтобы превратить осознание смерти и страданий в один из сильнейших стимулов жизни – в основу человеческой солидарности, в катализатор, без которого радость и энтузиазм утрачивают интенсивность и глубину,- индивид вынужден подавлять это осознание. Но как и при всяком подавлении, спрятать – не значит уничтожить. Страх смерти живет в нас, живет вопреки попыткам отрицать его, но подавление приводит к стерилизации.
Фромм подчеркивал, что среди людей есть биофилы и некрофилы. По мнению этого американского философа, врожденным стремлением всех живых существ вопреки тому, что сказал Фрейд, является тяга к жизни, интенсивное побуждение сохранить свое существование. Биофильство трактовано американским исследователем как глубокая жизненная ориентация, которая пронизывает все существо человека. Но в современной культуре весьма отчетливо обнаруживает себя и другая тенденция- некорфильская, т. е. разрушительная. Некрофильство - тяготение человека к смерти.
Не низменный страх, но глубокая тоска и ужас, который вызывает в нас смерть, есть показатель того, что мы принадлежим не только поверхности, но и глубине, не только обыденности жизни во времени, но и вечности. Вечность же во времени не только притягивает, но и вызывает ужас и тоску. Смысл смерти заключается в том, что во времени невозможна вечность, что отсутствие конца во времени есть бессмыслица.
Но смерть есть явление жизни, она еще по эту сторону жизни, она есть реакция жизни на требование конца во времени со стороны жизни. Смерть есть явление, распространяющееся на всю жизнь. Жизнь есть непрерывное умирание, изживание конца во всем, постоянный суд вечности над временем. Жизнь есть постоянная борьба со смертью и частичное умирание человеческого тела и человеческой души.
Время и пространство смертоносны, они порождают разрывы, которые являются частичным переживанием смерти. Когда во времени умирают и исчезают человеческие чувства, то это есть переживание смерти. Когда в пространстве происходит расставание с человеком, с домом, с городом, с садом, с животным, сопровождающееся ощущением, что, может быть, никогда их больше не увидишь, то это есть переживание смерти. Смерть наступает для нас не только тогда, когда мы сами умираем, но и тогда уже, когда умирают наши близкие. Мы имеем в жизни опыт смерти, хотя и не окончательный. Стремление к вечности всего бытия есть сущность жизни. И вместе с тем вечность достигается лишь путем прохождения через смерть, и смерть есть участь всего живущего в этом мире, и, чем сложнее жизнь, чем выше уровень жизни, тем более ее подстерегает смерть.
Смерть имеет положительный смысл. Но смерть есть вместе с тем самое страшное и единственное зло. Всякое зло может быть сведено к смерти. Убийство, ненависть, злоба, разврат, зависть, месть есть смерть и сеяние смерти. Смерть есть на дне всякой злой страсти. Никакого другого зла, кроме смерти и убийства не существует. Смерть есть злой результат греха. Безгрешная жизнь была бы бессмертной, вечной. Смерть есть отрицание вечности, и в этом онтологическое зло смерти, ее вражда к бытию, ее попытки вернуть творение к небытию.
Живые, а не мертвые страдают, когда смерть сделает свое дело. Мертвые больше не могут страдать; и мы можем даже похвалить смерть, когда она кладет конец крайней физической боли или печальному умственному упадку. Однако неправильно говорить о смерти как о ”вознаграждении”, поскольку подлинное вознаграждение, как и подлинное наказание, требует сознательного переживания факта. В жизни каждого человека может наступить момент, когда смерть будет более действенной для его главных целей, чем жизнь; когда то, за что он стоит, благодаря его смерти станет более ясным и убедительным, чем если бы он поступил любым другим образом.
Смерть - это совершенно естественное явление, она играла полезную и необходимую роль в ходе длительной биологической эволюции. Действительно, без смерти, которая придала самое полное и серьезное значение факту выживания наиболее приспособленных, и таким образом сделала возможным прогресс органических видов, человек вообще никогда не появился бы.
Социальное значение смерти также имеет свои положительные стороны. Ведь смерть делает нам близкими общие заботы и общую судьбу всех людей повсюду. Она объединяет нас глубоко прочувственными сердечными эмоциями и драматически подчеркивает равенство наших конечных судеб. Всеобщность смерти напоминает нам о существенном братстве людей, которое существует несмотря на все жестокие разногласия и конфликты, зарегистрированные историей, а также в современных делах.
В поисках бессмертия.
Когда богословы ведут полемику с атеистами, они обосновывают ценность религиозной идеологии для общества тем, что религия дает людям самую прекрасную идею - идею бессмертия, которую не может дать человеку атеизм . Но ведь ценность той или иной идеи определяется тем, имеет ли она реальный смысл или является фантазией или вымыслом. А является ли реальностью бессмертие человека, которое обещают людям религиозные проповедники? Наука отрицает возможность личного бессмертия человека, отвергая религиозные взгляды.
Выделяют несколько видов бессмертия, связанных с тем, что после человека остается его дело, дети, внуки и т. д., продукты его деятельности и личные вещи, а также плоды духовного производства (идеи, образы и т. д.).
Первый вид бессмертия
- в генах потомства, близок большинству людей. Кроме принципиальных противников брака и семьи и женоненавистников, многие стремятся увековечить себя именно этим способом. Одним из мощных влечений человека является стремление увидеть свои черты в детях, внуках и правнуках. В королевских династиях Европы прослежена передача определенных признаков (например, носа у Габсбургов) на протяжении нескольких поколений. С этим связывается наследование не только физических признаков, но и нравственных принципов семейного занятия или ремесла и т. д. Историки установили, что многие выдающиеся деятели русской культуры 19 века находились в родстве (пусть и отдаленном) между собой. Один век включает в себя четыре поколения.
Таким образом, за две тысячи лет сменилось 80 поколений, и 80-й предок каждого из нас был современником Древнего Рима, а 130-й - современником египетского фараона Рамзеса II.
Второй вид бессмертия - мумификация тела с расчетом на вечное его сохранение. Опыт еще египетских фараонов, практика современного бальзамирования (, Мао-Дзэдун др.) говорят о том, что в ряде цивилизаций это считается принятым. Достижения техники конца XX века сделали возможным криогенезацию (глубокое замораживание) тел умерших с расчетом на то, что медики будущего оживят и вылечат ныне неизлечимые болезни. Такая фетишизация человеческой телесности характерна в основном для тоталитарных обществ, где геронтократия (власть стариков) становится основой стабильности государства.
Третий вид бессмертия - упование на "растворение" тела и духа умершего во Вселенной, вхождение их в космическое "тело", в вечный кругооборот материи. Это характерно для ряда восточных цивилизаций, особенно японской. К такому решению близка исламская модель отношения к жизни и смерти и разнообразные материалистические или точнее натуралистические концепции. Здесь речь идет об утрате личностных качеств и сохранению частиц бывшего тела, могущих войти в состав других организмов. Такой крайне абстрактный вид бессмертия неприемлем для большинства людей и эмоционально отвергается.
Четвертый путь в бессмертие - связан с результатами жизненного творчества человека. Недаром членов различных академий награждают титулом "бессмертные". Научное открытие, создание гениального произведения литературы и искусства, указание пути человечеству в новой вере, творение философского текста, выдающаяся военная победа и демонстрация государственной мудрости - все это оставляет имя человека в памяти благородных потомков. Увековечиваются герои и пророки, страстотерпцы и святые, зодчие и изобретатели. Навечно сохраняются в памяти человечества и имена жесточайших тиранов и величайших преступников. Это ставит вопрос о неоднозначности оценки масштабов личности человека. Создается впечатление, что чем большее количество человеческих жизней и сломанных человеческих судеб лежит на совести того или иного исторического персонажа, тем больше у него шансов попасть в историю и обрести там бессмертие. Способность влиять на жизнь сотен миллионов людей, "харизма" власти вызывает у многих состояние мистического ужаса, смешанного с почтением. О таких людях слагают легенды и предания, которые передаются от поколения к поколению.
Пятый путь в бессмертие
- связан с достижением различных состояний, которые наука называет "измененные состояния сознания". В основном они являются продуктом системы психотренинга и медитации, принятой в восточных религиях и цивилизациях. Тут возможны "прорыв" в иные измерения пространства и времени, путешествия в прошлое и будущее, экстаз и просветление, мистическое ощущение причастности к Вечности.
Можно сказать, что смысл смерти и бессмертия, равно как и пути его достижения, являются обратной стороной проблемы смысла жизни. Очевидно, эти вопросы решаются различно, в зависимости от ведущей духовной установки той или иной цивилизации.
С религиозной точки зрения бессмертие человека состоит в том, что человеческая личность или ее душа продолжает будто бы существовать и после смерти. Страх перед смертью привязанность к жизни еще в глубокой древности у примитивных народов породили веру в бессмертие человека. У индейцев и египтян была распространена вера в то, что в момент смерти якобы происходит переселение души из одного тела в какое-либо другое. В дальнейшем в буддийской религии было выработано представление о последовательном очищении грешной души в каждом новом воплощении. Древние египтяне разделяли на два “параллельных мира” мир живых и царство мертвых. Царство мертвых древних египтян имело серьезное преимущество перед “всевластием мертвенности”, характерным, для научных космогоний и материалистических воззрений. Представления о загробной жизни отражены в частности в “Книге мертвых”. Одна из важнейших глав этой книги наставляет душу умершего, как она должна вести себя перед судом Осириса, и озаглавлена “Как войти в чертог истины и освободить человека от его грехов, чтобы он созерцал лик богов”. Душа должна покаяться и держать ответ о своих земных деяниях и держать ответ перед Богом. При соблюдении должных обрядов и обильных жертвоприношений “...у покойника будут хлебы, пироги, молоко, много мяса на алтаре великого Бога, он не будет отстранен ни от одной двери Аменти, он будет шествовать с богами Юга и Севера и воистину будет одним из слуг Осириса”. Схема перехода такова. Душа человека после пребывания на Земле прощается с бренным телом и отправляется в царство богов, где ей воздается по содеянному при материальной жизни. У бессмертной души сохраняются некоторые связи с материальным миром при условии, что в мире сохраняется память о ней.
Древние греки рассматривали смерть как конец земной жизни, после которой начинается новая загробная жизнь. Религии Греции и Рима не передавали полностью личность в руки всемогущих богов. Они не устанавливали пропасти между богами и людьми. Смертные люди за свои заслуги награждались бессмертием и тем самым переходили в сонм богов. Боги же могли спускаться к смертным людям, вступали с ними в общение и от смертных женщин рожали себе сыновей, которые отличились необычайной силой, или дочерей, выделяющихся необычайной красотой. Рассказ из Гомеровской “Одиссеи” в красочной форме передает сцену любви бога Посейдона и девы Тиро. Геракл, как повествуется в древних мифах, был сыном бога Зевса и смертной женщины Алкмены.
Иудаизмом в понятие бессмертия было введено новое представление о воскресении мертвых в судный день, перешедшее затем в христианскую и магометанскую религии. В некоторых христианских текстах(послания апостола Павла) содержится представление о том, что воскресение мертвых для будущей жизни произойдет в телесном виде. В дальнейшем эта наивная идея воскресения в телесном виде отошла на задний план и на ее место было выдвинуто новое положение о бессмертии души, продолжающей после смерти бестелесное существование.
В философии идею бессмертия души впервые провозгласил Платон. Благодаря его “Диалогам” эта идея получила широкое распространение. По мнению Платона, между духом и телом якобы существовало противоречие, при этом он отрицал возможность участия тела в высших духовных функциях. В диалоге “Федон” Платон отстаивал идею бессмертия души, утверждая, что “душа безначальна и бессмертна”. В доказательство бессмертия души приводил рассказ о легендарном греческом герое, который будучи убит, якобы пролежал не разлагаясь 10 дней, а потом ожил на костре и рассказал о том, что видел в подземном мире. В этом диалоге были еще и рассуждения предписываемые Сократу. Когда Сократ назвал смерть “отрешением души от тела”, то другой участник диалога - Кебет на это возражает: “То, что ты говорил о душе, вызывает у людей большие сомнения. Они опасаются, что расставшись с телом, душа нигде больше не существует, но гибнет и уничтожается в тот же самый день когда человек умирает. Едва расставшись с телом, выйдя из него, она рассеивается, словно дыхание или дым, разлетается и уже нигде не существует больше”. Вот “если бы душа действительно могла где-то собраться сама по себе и вдобавок избавленная от всех зол...это было бы Сократ, источником великой и прекрасной надежды, что слова твои истина. Но что душа умершего продолжает жить и обладает известною силой и способностью мыслить - это на мой взгляд требует веских доказательств и обстоятельных разъяснений”. И Сократ берется доказать, что бессмертие души существует в Аиде. В начале он доказывает, что существует две противоположности, одна возникает из другой. В качестве иллюстрации берет такие противоположности как прекрасное и безобразное, справедливое и несправедливое, указывая на то, что большее возникает из меньшего и наоборот. Затем он утверждает, что между двумя противоположностями существует два различных перехода. Сократ подводит своего оппонента к выводу, что подобно тому как сон противоположен бодрствованию и переходы между ними суть пробуждение и засыпание, противоположностью жизни является смерть, а переходом между ними - умирание и оживление. Поскольку природа не должна хромать на одну ногу, умирание надо дополнить оживанием. И Сократ заключает: “Поистине существуют и оживание, и возникновение живых из мертвых. Существуют и души умерших...” Сократ верит и в переселение душ. “Ну вот, например, говорит он, кто предавался чревоугодию, беспутству и пьянству, вместо того, чтобы всячески их остерегаться войдут вероятно в породу ослов или иных подобных животных...а те кто отдавал предпочтение несправедливости, властолюбию и хищничеству, присоединялся к волкам ястребам и коршунам”. Совсем иная участь, по его мнению, ожидает философов, которые еще при жизни стремятся к освобождению души от бремени тела. Поэтому “в род богов не позволено войти никому, кто не был философом и не очистился до конца, никому кто не стремился к познанию”. Так применяя чисто формальные приемы, Сократу удается убедить оппонента в истинности своего исходного утверждения.
Отцы церкви взяли на вооружение учения Сократа и Платона о бессмертии души.
Ни одна из современных религий не обходится без идеи личного бессмертия. Однако религиозный догмат о бессмертии фактически не дает ни какого ответа ни на вопрос о том, что такое жизнь, ни на вопрос о том, что такое смерть. В буддизме идея личного бессмертия выступает в форме учения о перевоплощении, согласно которому общественное положение человека есть результат деятельности его души в прошлых перевоплощениях. В христианстве и исламе идея личного бессмертия выражена более примитивно и вместе с тем более действенно - в виде обещания загробного райского блаженства для праведников и вечных адских мучений для грешников.
Идея личного бессмертия, развивавшаяся главным образом благодаря религии, была подхвачена различными идеалистическими философскими системами: в 17-18 вв. Лейбницем, Беркли, в наше время персоналистами Хоккингом, Флюэллингом и др. Ими была создана целая система “доказательств” бессмертия души, ни одно из которых не выдерживает научной критики., так как они основываются на абсолютном противостоянии души и тела.
Например, Джордж Беркли доказывал естественное бессмертие души. По его словам душа способна уничтожиться, но не подлежит “погибели или разрушению по обыкновенным законам природы или движения. Те же, которые признают, что душа человека есть лишь тонкое жизненное пламя или система животных духов, считают ее преходящей и разрушимой, подобно телу, так как ничто не может развеяться легче такой вещи, для которой естественно невозможно пережить смерть заключающей ее в себе оболочки... Мы показали, что душа неделима, бестелесна, непротяженна и, следовательно, неразрушима. Ничего не может быть яснее того, что движения, изменения, упадок и разрушение, коим как мы видим, ежечасно подвергаются тела природы(и что есть именно то что мы разумеем под ходом природы), не могу касаться деятельной простой и несложной субстанции, такое существо неразрушимо силой природы, т. е. человеческая душа естественно, бессмертна”.
При всем уважении к оригинальности и глубине мысли Беркли создается впечатление, что в основе его доказательства бессмертия души собственные переживания, убеждения, желания. Такая установка для него принципиальна. И тут с ним трудно спорить. Действительно основой наших представлений о мире является наше собственное “я”, опыт самопознания. Однако этот опыт ничего не говорит о бессмертности души.
Другим доказательством бессмертия души, стало моральное доказательство Канта. Кант рассуждал так: мы видим, что поступки людей в жизни обычно сильно отличаются от вечных моральных идеалов добра, справедливости и т. п. Но как найти примирение между идеалом и действительностью? Мы верим, что добро реализуется в жизни, пусть не сразу, но в бесконечном процессе нашего существования. Такое совершенствование должно быть свойственно каждой личности - ведь нравственная деятельность есть прежде всего личная деятельность. Бесконечный процесс личного совершенствования необходимо предполагает вечность бессмертной души.
Смертная душа.
Кажутся кощунственными и циничными рассуждения о выгоде веры в бессмертие души. Вроде бы соединяются низменное - выгода и возвышенное - вера и душа. Однако не следует закрывать глаза на реальность. В действительности слишком часто соседствуют и даже соединяются в мыслях, а то и много хуже - в поступках одного и того же человека две эти категории. Возникает сквернейший вид лжи: по отношению к самому себе, к совести, к Богу. Ханжество и лицемерие. И прежде эти качества имели не малое распространение. А ныне в нашей стране многие граждане, быстренько перестроив свои убеждения, обратились к церкви с тем же порывом, с которым прежде обращались в атеистические партийные органы.
На подобном фоне торжествующего криводушия особенно светло и ярко выделяются такие чистые и благородные люди, как патриарх Тихон, отец Павел Флоренский, Махатма Ганди. Все они верили в бессмертие души. А противостояли их доброй силе революционеры, атеисты, искатели земных плотских благ и утех, отвергающие бессмертие души. Короче все те, которых Достоевский относил в разряд бесов. Как будто очевидный житейский опыт подтверждает верность и благотворность ориентиров, предлагаемых великими мировыми религиями, в частности веры в загробное бытие души человеческой. Вне того, насколько оправдана с научных позиций эта вера, она бесспорно помогает достойнее жить и спокойнее умереть. А уж там будь что будет.
Итак, приглядимся более внимательно и беспристрастно к фактам. (философы с древнейших времен с убедительностью доказывали и смертность и бессмертие души) Они свидетельствуют о том, что благороднейшие поступки нередко совершаются теми, кто не верит в вечную душу и даже в Бога.
Вспомним революционера Во имя идеалов свободы, равенства и братства он отказался от всех своих немалых привилегий, от блестящей придворной карьеры, богатства и даже от профессиональной научной работы . Профессиональных революционеров, презирающих труд, он считал, говоря современным языком демагогами, тунеядцами, жаждущими личной власти. Не веря в бога, он всегда был устремлен к высочайшим нравственным ориентирам.
А Джордано Бруно? Его пример не менее поучителен. Многих просвещенных современников он потряс прежде всего тем, что принял казнь не веря в бессмертие души. Он имел возможность хотя бы притворно раскаяться и тем самым продлить свою единственную и неповторимую жизнь. Что ему мешало так поступить? Если нет загробной жизни, в этом мире человеку все дозволено, и не будет он после смерти держать ответ за свой грех лживого покаяния перед Богом!
Выходит Бруно верил в высокие идеалы добра, справедливости, человеческого достоинства, правды не побоявшись отдать за них свою жизнь. А его набожные судьи были насквозь пропитаны лицемерием. Справедливо отметил И. Кеплер “Бруно мужественно перенес смерть. Доказывая суетность всех религий. Бога он превратил в мир...”
Что же вдохновило Бруно на подвиг веры? Ведь он предопределял человечеству не всеобщее благоденствие , а тяжкие времена: “Явятся новая правда, новые законы, не останется ничего святого, ничего религиозного, не раздастся не одного слова, достойного неба и небожителей. Одни только ангелы погибели пребудут и смешавшись с людьми, толкнут несчастных на дерзость, ко всякому злу, якобы к справедливости, и дадут тем самым предлог для войн, для грабительства, обмана... И то будет старость и безверие мира!...”
По его словам “Кого увлекает величие дела, не чувствует ужаса смерти”.
Можно посчитать примеры Кропоткина и Бруно редкими исключениями. Однако такое мнение выглядит неубедительным. Уже одно то, что вера в бессмертие души кому-то не мешает или даже помогает жить и умереть достойно, доказывает ее плодотворность. Значит есть люди из лучших представителей рода человеческого способные преодолеть страх перед смертью и творить добро, мысль, красоту, совершать благородные деяния не под угрозой загробной кары, а по велению сердца, совести.
Вообще как мне представляется, не следует рассчитывать в вопросе о смертности или бессмертии души найти единственно верный ответ для всех времен, народов типов личности. Каждый выбирает эту веру по складу души, по уровню разума.
Бессмертие личности.
Бессмертие в родовой жизни, в детях и внуках, как и бессмертие в нации, в государстве, в социальном коллективе, ничего общего не имеет с бессмертием человека. Очень сложно и таинственно отношение между личностью и полом. Пол есть безличное, родовое в человеке, и этим отличается от эроса, который носит личный характер. С одной стороны, половая энергия есть помеха в борьбе за личность и спиритуализацию, она раздавливает человека своей натуральной безликостью, а с другой стороны, она может переключаться в творческую энергию, и творческая энергия требует, чтобы человек не был бесполым существом. Но настоящее преображение и просветление человека требует победы над полом, который есть знак падшести человека. С преодолением пола связано и изменение человеческого сознания. Бессмертие связано с состоянием сознания. Только целостное сознание, не раздвоенное, не разлагающееся на элементы и не слагающееся из элементов, ведет к бессмертию. Бессмертие в человеке связано также с памятью. Бессмертие есть просветленная память. Самое же страшное в жизни есть переживание безвозвратности, непоправимости, абсолютной утери.
Человек стремится к целостному бессмертию, к бессмертию человека, а не бессмертию сверхчеловека, интеллекта, идеального в себе начала, к бессмертию личного, а не безлично-общего. Проблему смерти связывают также с проблемой сна. Сновидение, говорит Фехнер, есть потеря умственного синтеза. Лишь освобождение сознания от исключительной власти феноменального мира раскрывает перспективу бессмертия.
Кошмарны перспективы бесконечных перевоплощений, перспективы совершенной потери личности в безликом Божестве и более всего перспектива возможности вечных адских мук. И если поверить в возможность бесконечного существования в условиях нашей жизни, которая часто напоминает ад, то это также было бы кошмаром, и вызывало бы желание смерти. У индусов перевоплощение было пессимистическим верованием. Буддизм, прежде всего, учит пути освобождения от мук перевоплощения. Верование в перевоплощение безблагодатное, и не дает освобождения от кармы. В нем безвыходность, нет выхода времени в вечность. Кроме того, учение о перевоплощении оправдывает социальную несправедливость, кастовый строй. Ауробиндо говорит, что тот, кто поддается печали и боли, кто раб ощущений, кто занят эфемерными предметами, не знает бессмертия.
Л. Толстой признает личную жизнь ложной жизнью, и личность не может наследовать бессмертия. Смерти нет, когда преодолевается личная жизнь. Учение Ницше о вечном возвращении есть античная греческая идея, которая знает лишь космическое время и целиком отдает человека во власть космического круговорота. Это кошмар того же типа, что идея бесконечного перевоплощения.
Наиболее персоналистический и человеческий, человечный характер носит учение Н. Федорова о воскрешении. Он требует возвращения жизни всем умершим предкам, не соглашается, чтобы кто-либо из умерших был рассматриваем как средство для грядущего, для торжества каких-либо безличных объектных начал. И речь идет о воскрешении целостного человека. Это не должно быть пассивным ожиданием воскресения мертвых, а активным участием, т. е. воскрешением.
Кошмарная идея ада связана была со смешением вечности и бесконечности. Но совершенно нелепа идея вечного ада. Ад есть не вечность, никакой вечности нет, кроме вечности божественной. Ад есть плохая бесконечность, невозможность выйти из времени в вечность. Это есть кошмарный призрак, порожденный объективацией человеческого существования, погруженного во время нашего эона. Если бы существовал вечный ад, это было бы окончательной неудачей и поражением Бога, осуждением миротворения, как дьявольской комедии.
Тема бессмертия человека заняла свое место в материалистическом мировоззрении. Материализм, всегда стремившийся понять мир без каких-либо субъективистских в него привнесений, с таких позиций развивал и данную тему. Однако материалисты античности исповедовали не столько стихийную диалектику, сколько механицизм, особенно в форме атомизма.
Идеалистическая система доказательств посмертного существования личности включает в себя немало и рациональных доводов. Например, Сократ говорил, что подобно тому, как сон противоположен бодрствованию и переходы между ними суть пробуждение и засыпание, противоположностью жизни является смерть, а переходом между ними - умирание и оживление. Поскольку же природа не должна хромать на одну ногу, умирание надо дополнить оживлением. И Сократ заключает: ”Поистине существуют и оживление, и возникновение живых из мертвых. Существуют и души умерших, и добрые между ними испытывают лучшую долю, а дурные - худшую”. Сократ также верит и в переселение душ.
Китайский философ Ян Чжу (ок.до н. э.) говорил, что смерть равняет всех: ”При жизни существуют различия - это различия между умными и глупыми, знатными и низкими. В смерти существует тождество - это тождество смрада и разложения, исчезновения и уничтожения… Умирают и десятилетний, и столетний; умирают и добродетельный, и мудрый; умирают и злой, и глупый”.
Ян Чжу категорически отрицал возможность личного бессмертия: ”Согласно законам природы, нет ничего, что не умирало бы. Долгая жизнь человеку ни к чему. Если человек раз уже о чем-то слышал и, если он уже прошел через все это, то и сто лет покажутся ему достаточным сроком, чтобы все ему крайне надоело: ни тем более ли горькой показалась бы ему долгая жизнь?”. Если за свою долгую жизнь человек не осуществил своего назначения, она не будет достойной и правильной, проживи он хоть 10000 лет. Но Ян Чжу решительно против преждевременного пресечения жизни: ”Раз уже человек живет, то он должен принимать жизнь легко, предоставив ее естественному течению и исполнять до конца ее требования, чтобы спокойно ожидать прихода смерти. Когда же придет смерть, то и к ней следует отнестись легко, предоставив ее естественному течению, и принять до конца то, что она принесет, чтобы оставить свободу исчезновению. Зачем в страхе медлить или торопиться в этом промежутке между рождением и смертью? ”.
Согласно учению черваков (древнеиндийская школа философии), существование мира обусловлено самопроизвольными комбинациями материальных элементов, и потому нет необходимости допускать бытие бога - творца. Можно обойтись без веры в бессмертие души. То, что люди называют душой, на самом деле есть обладающее сознанием живое тело. Существование души вне тела недоказуемо, поэтому и бессмертие ее доказать нельзя. После смерти организм снова разлагается на первоначальные элементы, соответствующей комбинацией которых он был. Человек в реальном мире испытывает и наслаждения, и страдания. Устранить последние полностью нельзя, однако их можно свести к минимуму, а первые, наоборот, к максимуму. Религиозные же понятия о добродетели и пороке - выдумка авторов священных книг.
Гераклит понимал смерть как элемент диалектики мирового процесса: ”Огонь живет земли смертью, и воздух живет огня смертью; вода живет воздуха смертью, земля - воды смертью. Огня смерть - воздуха рождение, и воздуха смерть - воды рожденье. Из смерти земли рождается вода. Из смерти воды рождается воздух, из смерти воздуха - огонь, и наоборот”. В этот круговорот он включает и душу, которая ему представляется материальной, одним из переходных состояний огня. Смерть и бессмертие он рассматривал как единство противоположностей: ”Бессмертные - смертны, смертные - бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают”.
Заключение.
Среди всех вещей, которыми гордится человек, непревзойденное значение занимает его ум. Именно он позволяет ему знать, что существует такое явление, как смерть, и размышлять о его значении. Животные не могут делать этого; они не осознают и не предвидят, что придет день и они погибнут. Перед животными не стоит проблема смерти или трагедии смерти. Они не спорят о воскресении и вечной жизни. Лишь люди могут спорить об этом, что они и делают. Вывод из такого спора чаще всего заключается в том, что эта жизнь есть всё. Истина относительно смерти освобождает нас и от унизительного страха, и от легковерного оптимизма. Она освобождает нас от лести самим себе и от самообмана. Люди не только могут вынести эту истину, касающуюся смерти, они могут подняться выше ее, к гораздо более благородным мыслям и действиям, чем те, которые сосредоточиваются вокруг вечного самосохранения.
Мечта людей о личном бессмертии родилась в глубине веков. Она имела и религиозно -пессимистические (когда бессмертными считались только боги), и религиозно-оптимистические формы (когда люди верили в вечную загробную жизнь). Но время шло, и вера иссякла. Человек все чаще отрекался от богов, и вот уже являются сонмы не верующих ни в богов, ни в посмертное вечное блаженство. Они жаждут земных радостей, и можно сказать, что борьба с преждевременными смертями, за долгую и счастливую жизнь (если не для себя, то по крайней мере, для своих потомков) составляет основную цель всего исторического развития человечества.
Знание того, что бессмертие есть иллюзия, освобождает нас от всякого рода озабоченности по поводу смерти. Это знание делает смерть в каком-то смысле неважной, оно освобождает всю нашу энергию и время для осуществления и расширения счастливых возможностей на этой земле. Это знание приносит человеку силу, глубину и зрелость, оно делает возможность простую, понятную и вдохновляющую философию жизни.
И еще одна очевидная истина: все мы бессмертны - пока живы!
Список литературы.
1. АВИЦЕННА. Канон врачебной науки. М., 1939.
2. О назначении человека. М.: Республика, 1993.
3. Вишев личного бессмертия. Новосибирск, 1990.
4. ДЖЕЙМСОН Древней Греции, Мифологии древнего мира. М,1977.
5. Кант И. Собрание сочинений, т.1.,2. ,М. 1964.
6. Ламонт К. Иллюзия бессмертия. М.: Политиздат, 1984.
7. Мир философии: книга для чтения. Ч.2, Человек. Общество. Культура. М.: Политиздат, 1991.
8. МИФЫ НАРОДОВ МИРА: Энциклопедия, главный редактор - 2-ое издание, М., Советская энциклопедия 1987.
Мушкелишвили. “Проблемы жизни и смерти и отношение к смерти в различные исторические эпохи и в различных религиях”, Internet,
http://the-other-side. *****/welcome_to_the_other_side. htm
10. ПЛАТОН. Диалоги: пер. С древнегреческого, АН СССР институт философии, М.: Мысль 1986.
11. “Философия и жизнь”, 1991/4 “О смерти и бессмертии ”, Изд. “Знание”.
12. Франкл Э. Виктор “Доктор и душа”, Internet, http://courage. *****/philos/philos. shtml#up
Франкл Э. Виктор. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990.
14. , Араб – , Введение в философию: учебник для вузов, Ч. 2, М.: Политиздат, 1989.
15. Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. М.: Политиздат, 1991.
Введение
Человек - это единственное существо, которое осознает свою смертность. Для человека осознание жизни неотрывно от понимания ее конечности, а соответственно и смерти. Однако осознание существования смерти, не есть еще само умирание. Из всего живого на земле, только человек осознает конечность всего сущего, конечность его существования. Проблема смерти для человека всегда будет открытым вопросом, затрагивающим самые глубины его духовного мира.
Чем является смерть для человека? Умирает ли его душа одновременно с физическим телом? Возможна ли жизнь после смерти? Эти вопросы издавна волновали человечество. Сама смерть и на сегодняшний день несет некую печать таинственности, попыткам разгадать таинство смерти, нет числа. Они с испокон веков не давали покоя человечеству. Конфуций писал: «Как понять, что такое смерть, если мы не можем понять что такое жизнь». Отношение человека к смерти - есть отражение моделирующей системы жизненного воззрения на мир.
Острота современного звучания этических проблем изучения жизни и смерти в философии определяется многими факторами. Изменение духовной ситуации в обществе в сторону демократизации общественного сознания, в котором центральное место начинает занимать идея прав человека, приводит к изменению осознания меры ответственности человека за жизнь.
Актуальность исследования проблемы смерти обусловлена еще и тем обстоятельством, что в последние годы этой теме уделяется повышенное внимание в философии, религии, искусстве развитых стран. Развивается целая отрасль знания - танатоло.
При написании работы использовался метод анализа, в частности изучались исторические источники и монографии.
Целью работы является теоретический, этико-философский анализ проблемы жизни и смерти.
Задачи исследования:
Выявить типические постановки и решения проблемы жизни и смерти в истории философии и этики;
Определить место и значение проблемы смерти в системе моральных ценностей;
Изучить отношение различных религий к смерти и бессмертию.
1. Нравственно-философский смысл жизни, смерти и бессмертия человека
Жизнь на грани смерти, утрата и поиск смысла жизни - ситуации, которые в философии и литературе исследовались глубже и тщательнее, чем какие-либо другие. Каждый человек в течение жизни неоднократно задумывается о смысле жизни, о смерти и о жизни после смерти. Бывают периоды, когда теряется смысл жизни и человек задумывается о смерти. Достойно умереть, когда приходит смерть, бороться с нею, когда есть шанс жить, помогать другим людям в их именно смертной борьбе - это великое и нужное любому человеку умение. Ему учит сама жизнь. Жизнь и смерть человека, смысл жизни - это вечные темы искусства философии.
Мировая культура имеет множество примеров, когда мыслители обращались к теме смерти, подчеркивая, что отношение людей к смерти разнится в разные времена. Были времена, когда люди не боялись смерти, их не страшила угроза физического уничтожения. Условно различное отношение к смерти можно разделить на дохристианские и христианские воззрения. Древние греки, например, учили преодолевать ужас небытия путем концентрации духа, воспитывать в себе презрение к смерти. Кончина человека рассматривалась древними как закономерное завершение жизненного цикла, она скорее носила эпический характер и не воспринималась как личная трагедия. В средние века, образ смерти был ужасен и устрашал людей.
Отношение восточных культур к смерти иное, они не рассматривают смерть как абсолютное завершение существования. Восточные культы не отождествляют смерть человека с полным исчезновением индивида. Древние буддийские традиции учат воспринимать смерть как естественный переход к новому циклу жизни и создают систему воззрений, значительно снижающих или вовсе снимающих страх смерти. Западные культуры предлагают другую трактовку. Христианский миф о воскрешении мертвых признает конечность индивидуального существования и завершение мировой истории.
На протяжении тысячелетий человечество искало способы не бояться смерти. И разработало ряд культурных традиций, позволяющих преодолеть страх и обрести символическое бессмертие. Перечислим некоторые из этих способов. Наиболее распространенной является трактовка, согласно которой смерть - это биологическое бессмертие, которое человек обретает в своем потомстве. Человек продолжает осознавать свою смертность, но его плод продолжает прибывать на земле. Особенно распространена эта традиция «неумирания» через генетических потомков в патриархальных и восточных культурах.
Представители таких культур стремятся утвердить себя в образе рода или племени. В этих культурах происходит отождествление человека не только с самим собой, сколько с кланом, племенем, родом. Человек, таким образом, является частицей общности и уверен, что данная общность не исчезнет.
Не менее распространенной во многих культурах является натуралистическая версия бессмертия . Последователи данной версии возвеличивают природу, ее вечную силу и желания сохранить ее.
Еще одним известным способом символического увековечивания жизни можно назвать творческое бессмертие . Создавая произведения искусства, литературы, других полезных предметов талантливые авторы, как бы оставляют в них частицу себя для потомков, для вечности. Посвятить жизнь реализации общей цели, обрести себя в коллективном сознании или в индивидуальном творчестве — вот сущность психологического состояния при попытке утвердить себя через собственные деяния.
Но, к сожалению, истории известны случаи, когда символического бессмертия можно добиться не созиданием, а разрушением. Так прославились на века Герострат, Нерон, Гитлер и др.
Теологическое (религиозное) бессмертие является наиболее значительным способом достижения символического бессмертия. Свою энергию жизни, волю к сохранению собственной уникальности человек издавна стремился выразить с помощью религиозной символики (создание икон, храмов, обрядов и т.п.) и утверждением идей о бессмертии души. В религиозных представлениях жизнь предстоит лишь как роковая пауза на вечном пути к небесному инобытию.
Данная точка зрения не раз критиковалась В. Розановым. Он считал, что христианство уделяет чрезмерное внимание жизни после смерти, отказываясь интерпретировать идею бессмертия (посмертного воскресения) человека. Он подвергал резкой критике идею превосходства абсолютного над земным, так как такая идея нивелирует саму жизнь и ее значение. «Мне кажется, - пишет он, - наше дело на земле просто: делай хорошо свое дело. И больше чего! Никаких страхов, опасения «за будущее»... Соответственно и воскресение - это не то, что будет когда-то в будущем, а то, что творится сейчас, в каждое мгновение: «Воскреснуть - это как бы в секунде бытия хлебнуть столько жизни, почерпнуть такую глубь бытия, засверкать таким сверканием душевности, оживления, напряжения всех его способностей, что годы и века тягучей жизни «так себе» не могут пойти с этим в сравнение». В контексте таких представлений бессмертие человека заключается в его неразрывной связи со всем бытием.
С развитием цивилизации понимание высшего смысла существования человека сильно модифицируются. Благодаря расширению кругозора и росту технических возможностей смысл жизни можно рассматривать как всё более масштабный вопрос.
Смерть не стоит рассматривать, как антагониста жизни. Смерть — это не потеря жизненной силы, а максимально её окончание, завершение. Поэтому стоит говорить о противопоставлении смерти факта рождения. Данный процесс достаточно естественный, это переход в неживое состояние из живого. Живое и неживое — это две категории единой системы природы, которая нас окружает.
Бессмертие — мысль о том, что закон жизни вполне определен, и что всё живое смертно, но этот закон может быть нарушен. Понятие «бессмертие» необходимо различать с понятиями, которые характеризуют вариант существования живого организма долгий период, и это зависит исключительно от скорости метаболизма в нём, или существование дольше, свойственное его виду. Хотя на практике и, в особенности, в творческом вопросе, данные понятия смешиваются. Понятие «бессмертие» характеризуется такими качествами как: - бессмертие души — осознания того, что человеческая душа вечна, в независимости от тела; - бессмертие физического тела — идея о человеке, который живет вечно; - создавать или делать бессмертным в переносном значении — сохранение навсегда в памяти людей. Идею бессмертия можно встретить у многих древнейших народов.
К примеру, в иудаизме вопрос о бессмертии связывали уже с учением о том, как воскресить мертвых и о загробном воздаянии; в подобном виде оно переходило в христианство и ислам. В большинстве философии его рассматривают как бестелесное, вне физическое существование души. Подход материализма всячески отрицает то, что душа существует. Потому в этих рамках проблема вероятности такого рода бессмертия совершенно бессмысленна. Как систематическое учение понятие о бессмертии изначально обосновал и развивал Платон. Он считал совершенно невозможным найти какие-нибудь доказательства в теории бессмертия души, и занимался обоснованием веры в него, используя постулаты практики разума. Бессмертие это центральная тема в философской мысли русского космизма.
Традиция нравственных и философских рассуждений о смерти и бессмертии всего человеческого, родилась в древности, где и получила разные интерпретации в современной философии. В верованиях Древнего Египта, на Востоке, в том числе и в буддизме, даосизме и т.к., а в том числе и в идеалистических философских системах Древней Греции, а особенно у Сократа и Платона, стремление преодолеть боязнь смерти связывали с постулатами о «загробной жизни», «бессмертия души». Помимо этого, и знание истины, возможно, в соответствии с этими представлениями, в случае если мы максимально ограничим свою связь с телом, а в лучшем случае - если сможем стать «бестелесными существами». В жизни на Земле к этому приближены больше, чем остальные философы. Потому, по учению Сократа, «человек, который действительно посвятил жизнь философии, перед смертью полон бодрости и надежды обрести, за могилой, величайшие блага». Более того, «те, кто подлинно предан философии, заняты, по сути вещей, только одним - умиранием и смертью».
Данные идеи смогли получить развитие у Аристотеля. Множество концепций подобного рода, в том числе и материалистов, понимание смерти исходило из описания бытия как постоянного круговорота Космоса и жизни человека и смерти как его частицы. Потому, к примеру, в соответствии с учением Эпикура, смерть не имеет значения для нас, так как распадается на атомы, уже не имеющих тактильных чувств, способности ощущать, следовательно не может иметь к нам никакого отношения. Лукреций объясняет данный факт тем, что когда человек умирает вместе с ним умирает его разум и после не может знать, что произойдет «после смерти». Смерть, с его точки зрения, это неизбежное и прогрессивное событие, потому что старики освобождают свое место для молодых, мы не можем думать о вероятности вечной жизни до того времени, как появились на свет, почему мы обязаны думать о ней после смерти?
Мучения, о которых мы думаем, что они будут испытаны нами после смерти, можно определить лишь как муки, которые существуют лишь в настоящем. Данные и другие соображения обязаны, но Лукрецию, примирять человека разумно со смертью.
Согласно традициям стоицизма какие-либо отрицательные эмоции в отношении смерти в том числе, признаются совершенно бессмысленными, так как смерть - это лишь факт, который свершился и с этим ничего нельзя сделать. Глупостью стоит считать желание вечной жизни: человеку нужно делать лишь то, что он может делать.
Стоицизм, который много уделял внимания данной «вечной» теме, по большей части, сделал акцент на смирении перед тем, что смерти не избежать, не видя в её отношении ни страха, ни отвращения, так как это одна из многих функций природы.
Какие-то элементы в стоицизме оказали существенное влияние на христианство и его формирование, хоть оно включило в себя множество из элементов древнегреческих философских представлений о смерти человеческого организма и «бессмертии» его души. Христианство, которое изначально возникло в форме идеологии «униженных и оскорбленных», давало философскому подходу к смерти, новый смысл: и проявляло реакцию скорее не на трагизм самой смерти, а приносило «утешение» для тех, кто очень тяжело переживал сложности земной жизни, ведя речь о чуде воскрешения как о «переходе» к улучшенной жизни. Сами «условия», которые выдвигались при этом, в максимальной степени акцентировались в первую очередь на нравственно-гуманистических аспектах сознания, на поведении человека, который помнил о смерти, о «судном дне» и пр. Дальнейшие преобразования данной первоначальной идеи не могли изменить ее ведущего нравственно-гуманистического содержания, которое оказало и оказывает огромное влияние не исключительно на религиозное сознание, но и на представления морали большинства людей, которые не верят в чудо «воскрешения Христа».
Очевидно, что ресурсы человеческого стремления преодолеть смерть и продлить жизнь - многообразны. Но означает ли это, что проблема исчерпана? Достаточно ли выбрать себе символический способ психологической защиты от страха смерти, чтобы жизнь стала полноценной? Очевидно, что нет. Осознание конечности своего бытия рано или поздно приходит к каждому человеку. И встает вопрос: имеет ли смысл наше существование и наша деятельность, если они могут оборваться?
2. Бессмертие, пути его обретения
Вопросы бессмертия на протяжении веков интересовали ученых, философов, мыслителей. Было написано великое множество трудов, которые условно можно подразделить на группы. Исследователи выделяют несколько видов бессмертия, связанных с тем, что после человека остается: его дело, дети, внуки и т. д., продукты его деятельности и личные вещи, а также плоды духовного производства.
К первому виду бессмертия относят бессмертие в генах потомства, которое является наиболее близким большинству людей. Есть исключение, которое составляют относительно небольшая группа людей, нежелающих иметь детей и продолжить, таким образом, себя. Эти люди не подвержены зову крови, они не испытывают одного из сильнейших влечений человечества: желание увидеть свои черты в детях, внуках и правнуках. Генетическое наследование передает не только физические (фенотипические) признаки рода, но и набор нравственных принципов семьи, таланты, тягу к ремеслам или науке. Проводились исторические исследования, которые выявили родство (пусть и далекое) многих выдающихся деятелей русской культуры XIX в.
Ко второму виду бессмертия можно отнести мумификацию тела с расчетом на вечное его сохранение. Эта практика использовалась еще в древнем Египте, при мумификации египетских фараонов. Однако она существует и в современном обществе, на примерах В. И. Ленина, Мао-Цзэдуна и др. Можно к такому виду отнести и ставшую доступной в XX и XXI вв. криогенезацию, то есть глубокое замораживание тел умерших. Люди, пожелавшие подвергнуть глубокой заморозке свои тела, верят в то, что в будущем медицина достигнет настолько высокого уровня, что их оживят и вылечат неизлечимые на сегодняшний день болезни.
Третий вид бессмертия имеет это упование на «растворение» тела и духа умершего во Вселенной, вхождение их в космическое «тело», в вечный кругооборот материи. Такой вид бессмертия характерен в основном для восточных цивилизаций, особенно японской. Также близко к такой модели исламское отношение к жизни и смерти, и разнообразные материалистические или точнее натуралистические концепции. Такой вид бессмертия предполагает утрату личностных качеств и сохранение частиц бывшего тела, могущих войти, в состав других организмов. Совершенно естественно, что большинство людей считают такой вид бессмертия неприемлемым для себя, и соответственно отвергают его.
Четвертый путь в бессмертие связан с результатами жизненного творчества человека. Недаром членов различных академий награждают титулом “бессмертные”. Научное открытие, создание гениального произведения литературы и искусства, указание пути человечеству в новой вере, творение философского текста, выдающаяся военная победа и демонстрация государственной мудрости - все это оставляет имя человека в памяти благодарных потомков. Увековечиваются герои и пророки, страстотерпцы и святые, зодчие и изобретатели. Навечно сохраняются в памяти человечества и имена жесточайших тиранов и величайших преступников. Это ставит вопрос о неоднозначности оценки масштабов личности человека. Создается впечатление, что чем большее количество человеческих жизней и сломанных человеческих судеб лежит на совести того или иного исторического персонажа, тем больше у него шансов попасть в историю и обрести там бессмертие. Способность влиять на жизнь сотен миллионов людей, “харизма” власти вызывает у многих состояние мистического ужаса, смешанного с почтением. О таких людях слагают легенды и предания, которые передаются от поколения к поколению.
Предлагаемый пятый путь в бессмертие связан с достижением различных состояний, которые наука называет «измененные состояния сознания». Наиболее часто такой вид встречается в восточных религиях и цивилизациях, как результат системы психотренинга и медитации. Можно говорить о возможном «прорыве» в иные измерения пространства и времени, путешествия в прошлое и будущее, экстаз и просветление, мистическое ощущение причастности к Вечности.
Конечно, существуют еще другие виды пути в бессмертие, описанные в философской литературе, однако в очень большой степени все зависит от веры и личного выбора человека: во что верить, как жить и к чему стремиться.
3. Этические аспекты проблемы жизни и смерти
Жизнь и смерть - вечные темы духовной культуры человека во все времена. О них размышляли основоположники религий, пророки, моралисты, философы, различные деятели литературы и даже искусства. Не думаю, что в мире нет человека, который бы не задумывался о смысле своего существования или о предстоящей смерти или о том, что ждет его после смерти, а может, есть эликсир бессмертия. Подобные мысли приходят всем, и в юном возрасте и в пожилом возрасте. В своих работах А. Л. Чехов в одном из писем написал: «Зафилософствуй - ум вскружится», имея в виду тот или иной способ решения проблем жизни и смерти. Однако подлинное философствование невозможно без обращения к этим вечным темам. Практически во всех философских источниках затрагивался этот вопрос, а Шопенгауэр считал, что «смерть - подлинный гений, вдохновитель или Мусагет философии», а Сократ определял жизнь как «подготовку к смерти».
По сути дела, речь идет о триаде: жизнь - смерть - бессмертие, поскольку все духовные системы человечества исходили из идеи противоречивого единства этих феноменов.
Вопрос о смысле жизни, в первую очередь, подвергается проблематике о явлении осмысленности жизни, то есть освещается ли она категорией разумности, мышления или абсолютно лишен смысловой содержимой, и не подвержен управлению разумом человека.
В этом вопросе ещё существует некий целостный структурный момент - это восприятие вопроса в целом, в структуре знания о природе жизни: «что является жизнью», «какая цель существования человека?», «какова цель моего существования в этом мире?», «в чем заключается цель моей жизни». Наша жизнь в таком ключе понимается в контексте жизни социума, взаимозависимости людей, в общем жизни на Земле, картины мира.
Необходимо довольно четко разграничивать сами понятия «цель жизни» и «смысл жизни». В то время, когда происходит социализация личности и перед человеком становится выбор кем стать, к примеру, инженером, хирургом, преподавателем то в этом еще нет полного ответа на мучающий его вопрос об общем смысле жизни (по крайней мере ответ ощущается в скрытой, чисто эмоциональной манере, доставляя человеку удовольствие). Но в то же время человек в своих рассуждениях двигается дальше, задаваясь вопросом: «для чего мне нужно стать хирургом или инженером?» И так цель указывает человеку на то, к чему он стремится, ради чего он это делает и во имя чего.
Некоторые из людей и большинство философов считают, что смысл жизни заключен в том, чтобы искать сам смысл жизни. Таким образом, мы приходим к замкнутой структуре знания. Н.А. Бердяев, например, говорил о том, что: «Пусть я не знаю смысл жизни, но искание смысла уже дает смысл жизни, и я посвящу свою жизнь этому исканию смысла». Эти слова скорее представляют собой фразеологическую игру типа «Я знаю, что, что я ничего не знаю», но в тоже время отражают идею некоторых философов современных и прошлого. На самом деле поиски всю жизнь смысловой ее единицы - это скорее инфантилизм. Прошедший процесс социализации, созревший человек в любом случае рано или поздно находит смысл жизни и занимается его реализацией, осознавая это. Те же кто, ищет смысл жизни, и лишь живущий ради его поиска, — это всего лишь неопределенный человек, не сформированный, который ещё не состоялся и не способен к решению жизненных задач.
Отчасти смысл жизни похож на определенную цель. Перед тем, как достигнуть цели, двигаться от цели человек должен определить ее для себя, установить и осознать разумно. Но установить цель - это лишь начало.
В дальнейшем, что важно, с одной стороны, поиски и нахождение смысла жизни, а, с противоположной, не заниматься переоценкой этого вопроса, не заострять внимания на самих поисках смысла жизни. Сама жизнь отчасти может иметь смысл, а может и не иметь вовсе. Жизнь принимает свой смысл настолько, насколько она осмысленна, организована, лаконична и значима.
Многие великие люди осознавали эту проблему в трагических тонах. Выдающийся отечественный биолог И. И. Мечников, размышлявший о возможности «воспитания инстинкта естественной смерти», писал о Л. Н. Толстом: «… терзаемый невозможностью решить эту задачу и преследуемый страхом смерти, спросил себя, не может ли семейная любовь успокоить его душу, он тотчас увидел, что это - напрасная надежда. К чему, спрашивал он себя, воспитывать детей, которые вскоре очутятся в таком же критическом состоянии, как и их отец? Зачем же им жить? Зачем мне любить их, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия? Любя их, я не могу скрывать от них истины, всякий шаг ведет их к познанию этой истины. А истина - смерть».
Заключение
Проведенный в работе этико-философский анализ проблемы жизни и смерти позволяет сделать несколько выводов общего порядка.
На основе полученного материала мы видим, что предельная рационализация общественного бытия, вытесняющая традиционные культурные нормы социального поведения, приводит к опустошению внутреннего мира человека. Можно с полным основанием сказать, что если гуманистическая сущность науки и техники состоит в их способности создавать универсально-практический тип отношения человека к миру, то сущность нового, реального гуманизма заключается в превращении этой способности в способность самого человека, в условие его индивидуального существования и развития. Подлинный смысл нового, реального гуманизма как раз и состоит в присвоении человеком «человеческой сущности», всего предшествующего материального и духовного богатства, в превращение его в человеческое богатство, в жизненно необходимое условие существования каждого индивида.
В чем же заключен смысл нашей жизни? Абсолютно ясно, что каждый дает ответ на данный вопрос по-своему. Но, все-таки, в нем можно рассмотреть и общие аспекты. Общечеловеческие - проявление любви и созидание, творчество. В большинстве случаев человек оценивает свою жизнь, руководствуясь именно этими двумя категориями. Любовь и творчество - вот смысл жизни Любовь занимается поддержкой и умножением жизни, ведет её к гармонии. А творчество занимается прогрессом жизни.
Список литературы
1. Бессознательное - природа, функции, методы исследования. - СПб.:Питер, 2002.-368с.
2. Гуревич П.С. Жизнь после смерти. - М., Акварель. 2004.-380с.
3. Философия: Учебник для технических вузов. — М.: Гардарики, 2000. — 688 с.
4. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х. Философия: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2004. — 415c
5. Основы современной философии. Издание 2-е дополненное. Серия «Мир культуры, истории и философии» / Оформление обложки С. Шапиро, А. Олексенко / СПб.:Издательство «Лань», 1999. — 155 c.
Сообщите об этом нам.
Очевидно, что проблема смысла и цели человеческого бытия, проблема жизни и смерти -- это центральная проблема философии.
Естественно, когда каждый человек -- это отдельное звено в бесконечной цепи всего человечества, то довольно легко определить смысл существования и этого отдельного звена -- ведь без него разорвется цепь. Но те же материалисты утверждают, что смертей не только отдельный человек, но и все человечество. Вообще ничего нет вечного под солнцем. Да и солнце рано или поздно потухнет, и не спасет человечество даже космический перелет в другую галактику, потому что и другая галактика рано или поздно взорвется, а в конце концов и вся Вселенная сожмется обратно в бесконечно малую величину. Известно, что в соответствии с концепцией универсального эволюционизма, 15--20 млн. лет назад все вещество нашей Вселенной концентрировалось в "сингулярности" -- определенном физическом состоянии, не подчиняющемся обычным законам физики. Вся материя была сконцентрирована в необычайно малом объеме с гигантской плотностью и чудовищной температурой. Новейшие исследования показывают, что эта "сингулярность" была создана из ничего. И вот из этого "ничего" все и возникло, чтобы по истечении определенного времени в это "ничто" превратиться снова.
Жизнь противоположна безжизненности, а смерть противоположна рождению, ибо смерть и рождение -- полюсы и границы человеческой жизни, ее пределы. Смерть даже более необходима, чем рождение, так как тот или иной человек мог и не родиться, поскольку его рождение зависело от многих случайностей. Но раз он родился, то уже ничто не может спасти его от смерти.
Жизнь и смерть -- вечные темы духовной культуры человечества во всех ее подразделениях. О них размышляли пророки и основоположники религий, философы и моралисты, деятели искусства и литературы, педагоги и медики. Вряд ли найдется взрослый человек, который рано или поздно не задумался бы о смысле своего существования, предстоящей смерти и достижении бессмертия. Эти мысли приходят в голову детям и совсем юным людям, о чем говорят стихи и проза, драмы и трагедии, письма н дневники. Только раннее детство или старческий маразм избавляют человека от необходимости решения этих проблем. А. П. Чехов в одном из писем написал: «Зафилософствуй -- ум вскружится», имея ввиду тот или иной способ решения проблем жизни н смерти. Однако подлинное философствование невозможно без обращения к этим вечным темам.
По сути дела, речь идет о триаде: жизнь - смерть - бессмертие, поскольку все духовные системы человечества исходили из идеи противоречивого единства этих феноменов. Наибольшее внимание здесь уделялось смерти и обретению бессмертия в жизни иной, а сама человеческая жизнь трактовалась как миг, отпущенный человеку для того, чтобы он мог достойно подготовиться к смерти и бессмертию.
За небольшими исключениями у всех времен и народов высказывались о жизни достаточно негативно. Жизнь -- страдание (Будда, Шопенгауэр, и др.); жизнь -- сон (Веды, Платон, Лабрюйер, Паскаль); жизнь -- бездна зла (древнеегипетский текст «Разговор человека со своим духом»).
Об этом же говорят пословицы и поговорки разных народов типа «Жизнь -- копейка». Ортега-и-Гассет определил человека не как тело и не как дух, а как специфически человеческую драму. Действительно, в этом смысле жизнь каждого человека драматична и трагична: как бы удачно не складывалась жизнь, как бы она не была длительна -- конец ее неизбежен.
Смерть и потенциальное бессмертие -- самая сильная приманка для философствующего ума, ибо все наши жизненные дела должны так или иначе соизмеряться с вечным. Человек обречен на размышления о смерти и в этом его отличие от животного, которое смертно, но не знает об этом. Правда, животные чуют приближение смерти, особенно домашние, и их предсмертное поведение чаще всего напоминает мучительные поиски уединения и успокоения. Смерть вообще -- расплата за усложнение биологической системы. Одноклеточные практически бессмертны и амеба в этом смысле счастливое существо. Когда организм становится многоклеточным, в него как бы встраивается механизм самоуничтожения на определенном этапе развития, связанный с геномом.
Столетиями лучшие умы человечества пытаются хотя бы теоретически опровергнуть этот тезис, доказать, а затем и воплотить в жизнь реальное бессмертие. Однако идеалом такого бессмертия является не существование амебы и не ангельская жизнь в лучшем мире. С этой точки зрения че-ловек должен жить вечно, находясь в постоянном расцвете сил, напоминая гетевского Фауста. «Остановись мгновенье»,-- это девиз такого бессмертия, импульсом которого является по словам Ортега-и-Гассета «биологическая ви-тальность», «жизненная сила», родственная той, «что колышет море, оплодотворяет зверя, покрывает дерево цветами, зажигает и гасит звезды». Человек не может смириться с тем, что именно ему придется уйти из этого великолепного мира, где кипит жизнь. Быть вечным зрителем этой грандиозной картины Вселенной, не испытывать «насыщения днями» как библейские пророки -- может ли что-то быть более заманчивым?
Но, размышляя об этом, начинаешь понимать, что смерть -- пожалуй, единственное, перед чем все равны: бедные и богатые, грязные и чистые, любимые и нелюбимые. Хотя и в древности, и в наши дни постоянно делались и делаются попытки убедить мир, что есть люди, побывавшие «там» н вернувшиеся назад, но здравый рассудок отказывается этому верить. Требуется вера, необходимо чудо, какое совершил евангельский Христос, «смертию смерть поправ». Замечено, что мудрость человека часто выражается в спокойном отношении к жизни и смерти. Вместе с тем, немало великих людей осознавали эту проблему в трагических тонах. Выдающийся отечественный биолог И.И. Мечников, размышлявший о возможности «воспитания инстинкта естественной смерти», писал о Л.Н. Толстом: «Когда Толстой, терзаемый невозможностью решить эту задачу и преследуемый страхом смерти, спросил себя, не может ли семейная любовь успокоить его душу, он тотчас увидел, что это -- напрасная надежда. К чему, спрашивал он себя, воспитывать детей, которые вскоре очутятся в таком же критическом состоянии, как и их отец? Зачем же им жить? Зачем мне любить их, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия? Любя их, я не могу скрывать от них истины,-- всякий шаг ведет их к познанию этой истины. А истина - смерть».
Итак, можно выделить первое измерение проблемы жизни, смерти и бессмертия - биологическое, ибо эти состояния являют по сути дела различные стороны одного феномена. Давно уже была высказана гипотеза панспермии, постоянного наличия жизни и смерти во Вселенной, постоянного их воспроизводства в подходящих условиях. Рождаются, живут и умирают звезды, туманности, планеты, кометы н другие космические тела, н в этом смысле не исчезает никто и ничто. Данный аспект наиболее разработан в восточной философии и мистических учениях, исходящих из принципиальной невозможности только разумом понять смысл этого вселенного кругооборота.
Осознание единства жизни человека и человечества со всем живым на планете, с ее биосферой, равно как и потенциально возможными формами жизни во Вселенной имеет огромное мировоззренческое значение.
Эта идея святости жизни, права на жизнь для любого живого существа уже в силу самого факта рождения принадлежит к числу вечных идеалов человечества. В пределе, вся Вселенная и Земля рассматриваются как живые существа, а вмешательство в еще плохо познанные законы их жизни чревато экологическим кризисом. Человек предстает как малая частица этой живой Вселенной, микрокосмос, вобравший в себя все богатство макрокосмоса. Чувство «благоговения перед жизнью» (А. Швейцер), ощущение своей причастности к удивительному миру живого в той или иной степени присуще любой мировоззренческой системе. Даже, если биологическая, телесная жизнь считается неподлинной, транзитной формой человеческого существования, то в этих случаях (например, в христианстве) человеческая плоть может и должна обрести иное, цветущее состояние.
Второе измерение проблемы жизни, смерти и бессмертия связано с уяснением специфики человеческой жизни и ее отличия от жизни всего живого. Уж более тридцати веков мудрецы, пророки и философы разных стран и народов пытаются найти этот водораздел. Чаще всего полагают, что все дело в осознании факта предстоящей смерти: мы знаем, что умрем и лихорадочно ищем путь к бессмертию. Все остальное живое тихо и мирно завершает свой путь, успев воспроизвести новую жизнь или послужить удобрением почвы для другой жизни. Человек же обречен на пожизненные мучительные раздумья о смысле жизни или ее бессмысленности, изводит этим себя, а часто и других, и вынужден топить эти проклятые вопросы в вине или наркотиках. Отчасти это верно, но возникает вопрос: как быть с фактом смерти новорожденного ребенка, который не успел еще ничего понять, или умственно отсталого человека, который не в состоянии ничего понимать? Считать ли началом жизни человека момент зачатия (который невозможно точно определить в большинстве случаев) или момент рождения?
Известно, что умирающий Л.Н. Толстой, обращаясь к окружающим, сказал, чтобы они обратили свои взоры на миллионы других людей, а не глядели на одного льва. Безвестная, и никого не трогающая кроме матери, смерть маленького существа от голода где-нибудь в Африке и пышные похороны всемирно известных лидеров перед лицом вечности не имеют различий. В этом смысле глубоко прав английский поэт Д. Донн, сказавший, что смерть каждого человека умаляет все человечество и поэтому «никогда не спрашивай, по кому звонит колокол, он звонит по тебе».
Очевидно, что специфика жизни, смерти и бессмертия человека прямо не связаны с разумом и его проявлениями, с успехами и достижениями человека в течение жизни, с оценкой его современниками и потомками. Смерть многих гениев в молодом возрасте, бесспорно, трагична, но при этом нет оснований считать, что их последующая жизнь, если бы она состоялась, дала бы миру нечто еще более гениальное. Здесь действует какая-то не вполне ясная, но эмпирически очевидная закономерность, выражаемая христианским тезисом: «Бог прибирает в первую очередь лучших».
В этом смысле жизнь и смерть не охватываются категориями рационального познания, не укладывается в рамки жесткой детерминистической модели мира и человека. Рассуждать об этих понятиях хладнокровно можно до определенного предела. Он обусловлен личной заинтересованностью каждого человека и его способностью к интуитивному постижению предельных оснований человеческого бытия. В этом отношении каждый подобен пловцу, прыгнувшему в волны среди открытого моря. Надеяться надо только на себя, несмотря на человеческую солидарность, веру в Бога, Высший Разум и т. д. Уникальность человека, неповторимость личности проявляется здесь в высочайшей степени. Генетики подсчитали, что вероятность появления на свет именно этого человека от данных родителей составляет одни шанс на сто триллионов случаев. Если уж это свершилось, то какое же поражающее, воображение многообразие человеческих смыслов бытия предстает перед человеком, когда он задумывается о жизни и смерти?
Третье измерение этой проблемы связано с идеей обретения бессмертия, которая рано или поздно становится в центр внимания человека, особенно, если он достиг зрелого возраста. Выделяют несколько видов бессмертия, связанных с тем, что после человека остается его дело, дети, внуки и т. д. (разумеется, не у каждого), продукты его деятельности личные вещи, а также плоды духовного производства (идеи, образы и т. д.).
Первый вид бессмертия - в генах потомства, близок большинству людей. Кроме принципиальных противников брака и семьи и женоненавистников, многие стремятся увековечить себя именно этим способом. Одним из мощных влечений человека является стремление увидеть свои черты в детях, внуках на правнуках. В королевских династиях Европы прослежена передача определенных признаков (например, носа у Габсбургов) на протяжении нескольких поколений. С этим связывается наследование не только физических признаков, но и нравственных принципов семейного занятия или ремесла и т.д. Историки установили, что многие выдающиеся деятели русской культуры XIX в. находились в родстве (пусть и отдаленном) между собой. Один век включает в себя четыре поколения.
Второй вид бессмертия - мумификация тела с расчетом на вечное его сохранение. Опыт еще египетских фараонов, практика современного бальзамирования (В.И. Ленин, Мао-Цзэдун и др.) говорят о том, что в ряде цивилизаций это считается принятым. Достижения техники конца XX в. сделали возможною глубокое замораживание тел умерших с расчетом на то, что медики будущего их оживят и вылечат ныне неизлечимые болезни. Такая фетишизация человеческой телесности характерна в основном для тоталитарных обществ, где власть стариков становится основой стабильности государства.
Третий вид бессмертия - упование на растворение тела и духа умершего во Вселенной, вхождение их в космическое «тело», в вечный кругооборот материи. Это характерно для ряда восточных цивилизаций, особенно японской. К такому решению близка исламская модель отношения к жизни и смерти и разнообразные материалистические или точнее натуралистические концепции. Здесь речь идет об утрате, личностных качеств и сохранению частиц бывшего тела, могущих пойти в состав других организмов. Такой крайне абстрактный вид бессмертия неприемлем для большинства людей и эмоционально отвергается.
Четвертый путь в бессмертие связан с результатами жизненного творчества человека. Недаром членов различных академий награждают титулом «бессмертные». Научное открытие, создание гениального произведения литературы и искусства, указание пути человечеству в новой вере, творение философского текста, выдающаяся военная победа и демонстрация государственной мудрости -- все это оставляет имя человека в памяти благодарных потомков. Увековечиваются герои и пророки, страстотерпцы и святые, зодчие и изобретатели. Навечно сохраняются в памяти человечества и имена жесточайших тиранов и величайших преступников. Это ставит вопрос о неоднозначности оценки масштабов личности человека. Создается впечатление, что чем большее количество человеческих жизней и сломанных человеческих судеб лежит на совести того или иного исторического персонажа, тем больше у него шансов попасть в историю и обрести там бессмертие. Способность влиять на жизнь сотен миллионов людей, «харизма» власти вызывает у многих состояние мистического ужаса, смешанного с почтением. О таких людях слагают легенды и предания, которые передаются от поколения к поколению.
Пятый путь в бессмертие связан с достижением различных состояний, которые наука называет «измененные состояния сознания». В основном они являются продуктом системы психотренинга и медитации, принятой в восточных религиях и цивилизациях. Тут возможны «прорыв» в иные измерения пространства и времени, путешествия в прошлое и будущее, экстаз и просветление, мистическое ощущение причастности к Вечности.
Можно сказать, что смысл смерти и бессмертия, равно как и пути его достижения, являются обратной стороной проблемы смысла жизни. Очевидно, что эти вопросы решаются различно, в зависимости от ведущей духовной установки той или иной цивилизации.
В истории духовной жизни человечества было немало концепций жизни, смерти и бессмертия, основанных па безрелигиозном и атеистическом подходе к миру и человеку. Безрелигиозных людей и атеистов часто упрекают за то, что для них земная жизнь -- это все, а смерть -- непреодолимая трагедия, которая в сущности делает жизнь бессмысленной. Л.Н. Толстой в своей знаменитой исповеди мучительно пытался найти в жизни тот смысл, который бы не уничтожался неизбежно предстоящей каждому человеку смертью. Для верующего тут все ясно, а для неверующего возникает альтернатива трех возможных путей решения этой проблемы.
Первый путь -- это принять мысль, которая подтверждается наукой и просто здравым рассудком, что в мире невозможно полное уничтожение даже элементарной частицы, а действуют законы сохранения. Сохраняется вещество, энергия и, как полагают, информация и организация сложных систем. Следовательно, частицы нашего «я» после смерти войдут в вечный кругооборот бытия и в этом смысле будут бессмертными. Правда, они не будут обладать сознанием, душой, с которой связывается наше «я». Более того, этот вид бессмертия обретается человеком в течение всей жизни. Можно даже сказать в форме парадокса: мы живы только потому, что ежесекундно умираем. Ежедневно отмирают эритроциты в крови, клетки эпителия на наших слизистых, выпадают волосы и т.д. Поэтому зафиксировать жизнь и смерть как абсолютные противоположности в принципе невозможно ни в действительности, ни в мысли. Это две стороны одной медали. жизнь смерть развитие духовный
Перед лицом смерти люди в полном смысле слова равны друг другу, как и любому живому существу, что стирает неравенство, на котором основана земная жизнь. Поэтому спокойное восприятие мысли об отсутствии вечной жизни моего «я» и понимание неизбежности слияния с «равнодушной» природой является одним из путей безрелигиозного подхода к проблеме бессмертия. Правда, в этом случае возникает проблема Абсолюта, на которого можно опереть свои нравственные решения. А.П. Чехов писал: «Нужно веровать в бога, а если веры нет, то не занимать ее места шумихой, а искать, искать, искать одиноко, одни на один со своею совестью».
Второй путь -- обретение бессмертия в делах человеческих, в плодах материального и духовного производства, которые входят в копилку человечества. Для этого, прежде всего, нужна уверенность в том, что человечество бессмертно и идет космическое предназначение в духе идей К. Э. Циолковского и других космистов. Если же для человечества реально самоуничтожение в термоядерной экологической катастрофе, а также вследствие каких-то космических катаклизмов, то в этом случае вопрос остается открытым. Среди идеалов и движущих сил такого вида бессмертия чаще всего фигурировали борьба за освобождение человечества от классового и социального гнета, борьба за национальную независимость и обретение государственности, борьба за мир и справедливость и т.п. Это придает жизни таких борцов высший смысл, который смыкается с бессмертием.
Третий путь к бессмертию, как правило, выбирают люди, масштаб деятельности которых не выходит за рамки их дома и ближайшего окружения. Здесь может идти речь о движении «вглубь», о том, что выражено словами гетевского Мефистофеля: «Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо». Не ожидая вечного блаженства или вечных мук, не вдаваясь в «хитрости» разума, соединяющего микрокосмос (т.е. человека) с макрокосмосом, миллионы людей просто плывут в потоке жизни, ощущая себя его частицей. Бессмертие для них -- не в вечной памяти облагодетельствованного человечества, а в повседневных делах и заботах. «Веровать в бога не трудно... Нет, вы в человека уверуйте!» -- Чехов написал это, вовсе не предполагая, что именно он, сам, станет примером такого типа отношения к жизни и смерти. Для его характеристики Л.Л. Коган предложил термин «витой» как критерий, характеризующий все возможные признаки жизненной активности, необходимой для нормального функционирования человеческого существа.
Можно упомянуть и о других концепциях обретения бессмертия, направленных на изменение законов природы («общее дело» Н.Ф. Федорова, пантеизм в духе идей А. Эйнштейна), достижение «жизни после смерти», а также многочисленные мистические течения, основанные на реальном наличии потустороннего мира и возможности общения с ушедшими. Более того, появляются сведения о наличии у каждого человека своеобразного энергетического фантома, который покидает человека незадолго до физической смерти, но продолжает существовать в иных измерениях. Это вообще ведет к иному типу пониманию проблемы бессмертия, что связано с необходимостью самоопределения в вечном мире информационно-энергетических сущностей.
Современная танатология (учение о смерти) представляет собой одну из «горячих» точек естественнонаучного и гуманитарного знания. Интерес к проблеме смерти обусловлен несколькими причинами. Во-первых, это ситуация глобального цивилизованного кризиса, который в принципе может привести к самоуничтожению человечества. Во-вторых, значительно изменилось ценностное отношение к жизни и смерти человека в связи с общей ситуацией па Земле.
Почти полтора миллиарда жителей планеты живут в полной нищете и еще один миллиард приближается к отметке, полтора миллиарда землян лишены какой-либо медицинской помощи, миллиард людей не умеют читать и писать, в мире насчитывается 700 миллионов безработных; 200 миллионов детей вынуждены работать с младенческого возраста, чтобы не умереть с голода. Это приводит к выраженному обесцениванию человеческой жизни, к презрению жизни как своей, так и другого человека. Вакханалия терроризма, рост числа немотивированных убийств и насилия, а также самоубийств -- это симптомы глобальной патологии человечества на рубеже XX -- XXI вв. В то же время на рубеже 60-х гг. в странах Запада появилась биоэтика - комплексная дисциплина, находящаяся на стыке философии, этики, биологии, медицины и ряда других дисциплин. Она явилась своеобразной реакцией на новые проблемы жизни и смерти, пересадок органов и тканей, генной инженерии, экстракорпорального оплодотворения и т.д.
Это совпало с ростом интереса к правам человека, в том числе и по отношению к собственному телесному и духовному бытию и реакции общества на угрозу жизни, на Земле, вследствие обострения глобальных проблем человечества. В настоящее время биоэтика охватывает такие сферы, как этические проблемы эвтаназии, декортикации, аборта, суицида, пересадок органов, включая мозг, новые технологии деторождения (включая суррогатную беременность), генной инженерии, половой самоидентификации человека, отношения к психическому здоровью и т.д. Эти проблемы решаются на основе существующих нормально-этических подходов в рамках мировых и национальных религий, гуманистической этики свободомыслия, а также различных правовых систем.
Особое внимание в последние годы привлекает эвтаназия (дословно «счастливая смерть») как новое явление в жизни общества, требующее глубокого философского размышления. Сам термин появился еще со времен Ф. Бэкона, который предложил так называть легкую смерть с целью прекращения страданий при неизлечимых болезнях. Оче-видно, что в основе этого явления лежит понятие права человека не только на жизнь, но и на смерть, что относится и к феномену самоубийства. Различают следующие виды эвтаназии: активная, добровольная; активная, недобровольная; пассивная, добровольная; пассивная, недобровольная.
Решая вопрос о законности и моральной обоснованности эвтаназии, медикам приходится решать дилемму, известную еще, со времен Гиппократа: с одной стороны, врач не должен быть убийцей, даже по просьбе пациента, а с другой стороны, он должен облегчить участь страждущего. В современном мире эвтаназия законодательно разрешена в Нидерландах, а в других странах, в том числе и в России, она запрещена. Однако проблема существует и в ряде стран (США и др.), изобретены даже устройства для безболезненной смерти, которые сам больной может привести в действие. В истории философской мысли было немало высказываний относительно права человека принять такое решение. Так, Монтень считал, что когда в жизни человека больше зла, чем блага, значит, настал час, когда он может уйти. В ряде стран Запада становятся традицией «поминки при жизни», когда неизлечимо больной человек, чувствуя приближение смерти, просит собрать родных и друзей. Уже несколько десятилетий функционируют «хосписы» -- больницы для безнадежных больных, где можно умереть «по-человечески».
Если у человека есть нечто вроде инстинкта смерти (о чем писал 3. Фрейд), то каждый имеет естественное, врожденное право не только жить, каким он родился, но и умереть в человеческих условиях. Одной из особенностей современности является то, что гуманизм и гуманные отношения между людьми являются основой и залогом выживания для человечества. Если раньше любые социальные и природные катаклизмы оставляли надежду на то, что большинство людей выживет и восстановит разрушенное, то сейчас витальность можно считать понятием, производным от гуманизма.